Музей кино
Заметки Елены Долгопят о работе в Музее кино
(дневниковые записи, воспоминания, эссе)
(дневниковые записи, воспоминания, эссе)
Музей кино
Заметки Елены Долгопят
о работе в Музее кино
(дневниковые записи, воспоминания, эссе)
о работе в Музее кино
(дневниковые записи, воспоминания, эссе)
Музей кино - роман
эссе
эссе
Несколько раз. Я не знаю отчего. Несколько раз я спускалась в метро, садилась в вагон и ездила по кольцу. Два круга, три, четыре. Пока не надоедало. Я жила в лучшем городе мира, свободно, без надзора и забот, в желанной дали от родительского дома (мое время отставало от их на три с половиной часа). Моя восемнадцатилетняя голова была легка, если не бездумна. Мне доставало денег, я легко сходилась с людьми, никто меня не обижал, и я никого не обижала. Зачем, для чего мне нужны были эти кружения?
Подземное царство, город мертвых. Нет, я так не думала. Я не помню, чтобы я что-либо думала тогда.
Садилась в вагон.
Двери закрываются. Следующая станция. Усталые, как правило, усталые, лица. Черные зеркала окон. Вспышки света за ними. Блики. Отсветы. Отражения. Гул. Станция. Двери закрываются.
Мне хватало свободного времени, и я проводила его так бессмысленно, так странно.
Что-то хочется придумать себе в оправдание. Например: я наблюдала людей. Не знаю. Не уверена. Жаль, что я ничего не записывала тогда. Я бы прочла сейчас, хотя бы и собственную ложь.
24.09.2017
Подземное царство, город мертвых. Нет, я так не думала. Я не помню, чтобы я что-либо думала тогда.
Садилась в вагон.
Двери закрываются. Следующая станция. Усталые, как правило, усталые, лица. Черные зеркала окон. Вспышки света за ними. Блики. Отсветы. Отражения. Гул. Станция. Двери закрываются.
Мне хватало свободного времени, и я проводила его так бессмысленно, так странно.
Что-то хочется придумать себе в оправдание. Например: я наблюдала людей. Не знаю. Не уверена. Жаль, что я ничего не записывала тогда. Я бы прочла сейчас, хотя бы и собственную ложь.
24.09.2017
__________________________
Вот она, точка во Вселенной. Серый матовый экран.
Ночью он осветился, принял сигнал из далекой Москвы.
Ночью, в небольшой комнате, в старом бревенчатом доме (о котором говоришь с гордостью: построен до революции), не то что Москва, соседняя улица кажется недостижимой. Сад за окном - за тысячу верст. И отчего вдруг пришло на ум это именно слово – «верст»? Не в девятнадцатом веке живу, в двадцатом. Год? Одна тысяча девятьсот восемьдесят девятый. Ого!
В этом доме девятнадцатый век не дальше двадцатого, и двадцать первый, грядущий, тут, рядом. Я слышу их дыхание. Особенно в ночной час.
Сигнал принят (самодельная антенна на железной двускатной крыше), экран освещается, появляется лицо, и я смотрю на него. Я слышу голос, он меня завораживает. Я опускаюсь на стул у стены (стена теплая, за стеной натопленная печь). Я смотрю, я слушаю. Этот голос, это лицо - моя судьба.
Рассказ идет о старом фильме («Актриса» Леонида Трауберга, 1942 год). Потускневшие кадры. Как будто твои глаза помутнели от старости, как будто им не двадцать пять, а сто. Слишком много видели, картинки наслаиваются одна на другую.
Передача заканчивается, я ложусь спать. Я робко мечтаю поступить во ВГИК. Стать режиссером. Почти что космонавтом. В моем представлении такая же удивительная профессия.
В тысяча девятьсот девяносто четвертом году, солнечным осенним днем (так помнится), я пришла в Киноцентр на Красной Пресне.
- В Музей кино, - так я сказала вахтерше.
Вахтерша потребовала пропуск. Пропуска у меня не было, я хотела устроиться в Музей работать.
- А кем ты будешь работать? Какая у тебя специальность?
- Я сценарист, окончила ВГИК.
- Вас, сценаристов, - сказала вахтерша, - как собак нерезаных.
Тем не менее, она подняла трубку, набрала номер и сказала (и голос ее стал выше, тоньше):
- Наум Ихильевич, к вам тут девочка.
Нет, любезный читатель, не потому я застыла в смущении перед сердитой вахтершей, что киновед и директор Музея кино рассказал мне когда-то с телеэкрана о старом фильме. Не его магический голос привел меня в Киноцентр. Так мне, во всяком случае, помнится.
Вот она, точка во Вселенной. Серый матовый экран.
Ночью он осветился, принял сигнал из далекой Москвы.
Ночью, в небольшой комнате, в старом бревенчатом доме (о котором говоришь с гордостью: построен до революции), не то что Москва, соседняя улица кажется недостижимой. Сад за окном - за тысячу верст. И отчего вдруг пришло на ум это именно слово – «верст»? Не в девятнадцатом веке живу, в двадцатом. Год? Одна тысяча девятьсот восемьдесят девятый. Ого!
В этом доме девятнадцатый век не дальше двадцатого, и двадцать первый, грядущий, тут, рядом. Я слышу их дыхание. Особенно в ночной час.
Сигнал принят (самодельная антенна на железной двускатной крыше), экран освещается, появляется лицо, и я смотрю на него. Я слышу голос, он меня завораживает. Я опускаюсь на стул у стены (стена теплая, за стеной натопленная печь). Я смотрю, я слушаю. Этот голос, это лицо - моя судьба.
Рассказ идет о старом фильме («Актриса» Леонида Трауберга, 1942 год). Потускневшие кадры. Как будто твои глаза помутнели от старости, как будто им не двадцать пять, а сто. Слишком много видели, картинки наслаиваются одна на другую.
Передача заканчивается, я ложусь спать. Я робко мечтаю поступить во ВГИК. Стать режиссером. Почти что космонавтом. В моем представлении такая же удивительная профессия.
В тысяча девятьсот девяносто четвертом году, солнечным осенним днем (так помнится), я пришла в Киноцентр на Красной Пресне.
- В Музей кино, - так я сказала вахтерше.
Вахтерша потребовала пропуск. Пропуска у меня не было, я хотела устроиться в Музей работать.
- А кем ты будешь работать? Какая у тебя специальность?
- Я сценарист, окончила ВГИК.
- Вас, сценаристов, - сказала вахтерша, - как собак нерезаных.
Тем не менее, она подняла трубку, набрала номер и сказала (и голос ее стал выше, тоньше):
- Наум Ихильевич, к вам тут девочка.
Нет, любезный читатель, не потому я застыла в смущении перед сердитой вахтершей, что киновед и директор Музея кино рассказал мне когда-то с телеэкрана о старом фильме. Не его магический голос привел меня в Киноцентр. Так мне, во всяком случае, помнится.
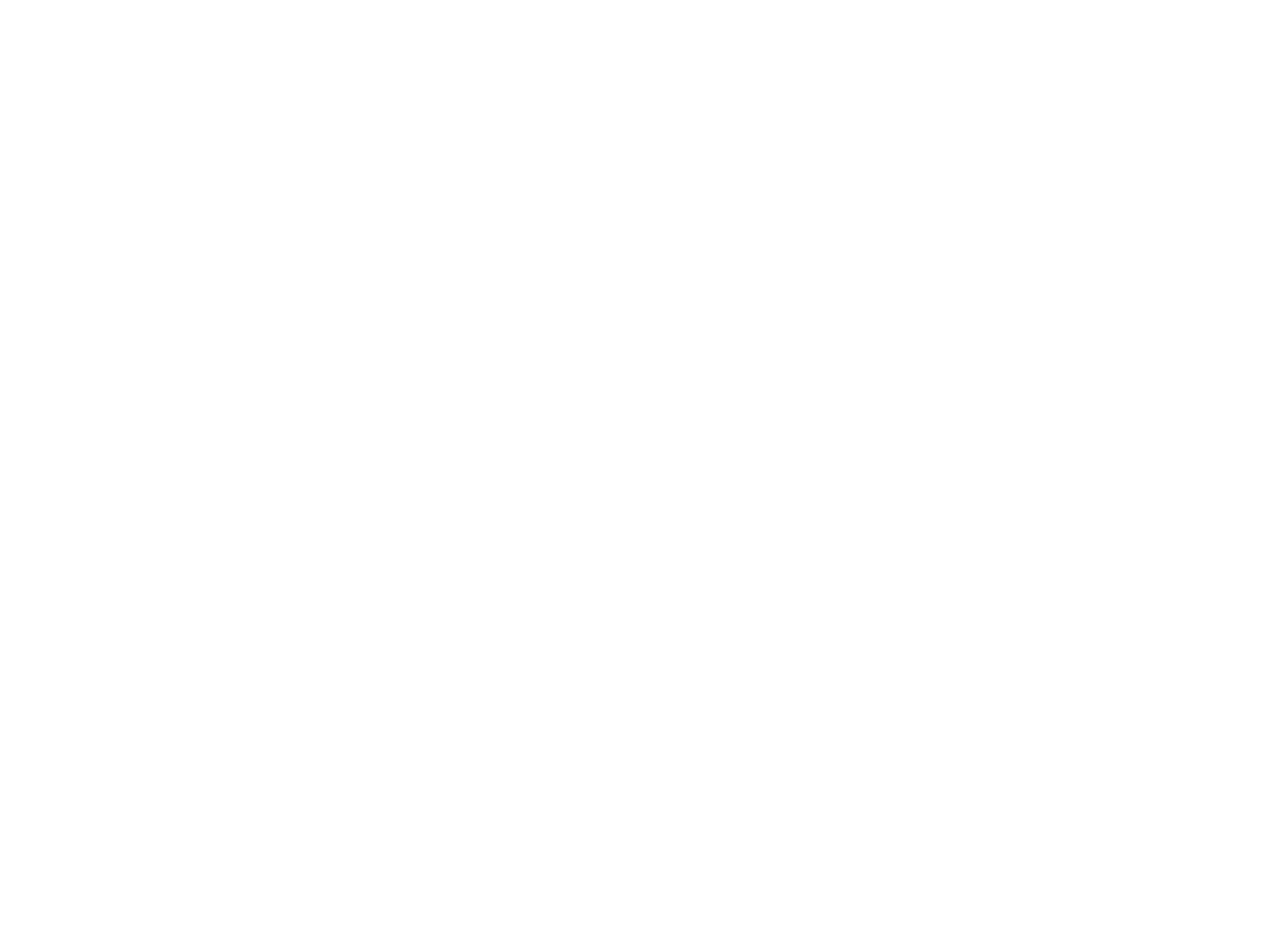
Margarethe von Trotta и Наум Ихильевич Клейман, директор Музея кино
Примерно за полгода до этого, холодной весной, в сумерках, сидела я на небольшом диване в небольшой кухне на первом этаже многоквартирного, многоэтажного дома. Год, значит, по-прежнему девяносто четвертый, и мы все, обитатели дома и гости, молоды, хотя и не первой молодостью. Мы давно знакомы, вместе учились на факультете сложных и темных (мне) математических наук (специальность - «прикладная математика»; и прозвище у меня было - Приматка Долгопятка).
Хозяин дома отрезает ломоть простого серого хлеба, чуть подсушивает в тостере, намазывает теплый еще кусок майонезом и протягивает мне.
Я бы не прочь вновь почувствовать этот вкус (вкус как предчувствие). Невозможно. И дело не только в навсегда изменившемся вкусе хлеба. Воздух, свет, отношения, всё разрядилось, рассеялось, потускнело. Это естественно. И я не бы не хотела застрять в том (или другом) времени на веки вечные (да мне никто и не предлагает). Но воспоминание доставляет мне удовольствие, уж простите.
Хлеб и чай. Электричество в воздухе.
- А почему бы тебе не пойти работать в Музей кино, - говорит Олег.
- А где это?
Ей-богу, не знала!
Олег не удивился. Он никогда (кажется) не удивлялся ни моему непреодолимому невежеству, ни моей неизбывной наивности, ни моему простосердечному любопытству. Чем-то я его привлекала. Когда-то (много позже описываемых событий) Владимир Всеволодович Забродин написал, что, вероятно, был одним из экспонатов кунсткамеры Владимира Кобрина. Очень, вероятно, что Олег также поместил меня в свою кунсткамеру. Впрочем, как и я его в свою. Хе-хе.
{Режиссер Владимир Михайлович Кобрин (1942-1999). Что-то было средневековое, алхимическое в том, чего он добивался от движущейся картинки, наслаивая одну на другую, ускоряя бег пленки, растворяя изображение, разваливая. Он добивался поразительных эффектов в эру докомпьютерной графики.
Алхимический опыт по превращению, приращению, разъятию. Реальности?
Кобрин разбирает мир на части и собирает вновь. И мир движется, хотя и не совсем плавно, толчками.
В новом (2017 год) «Твин Пиксе» я увидела то же движение. Почувствовала страх мертвого, симметричного мира; неподвижного, даже если он движется. Всегда по кольцу, по замкнутому кругу. Нет развития, нет перемен, нет воздуха. Это сама смерть, и глаза ее пусты.
Картинки в новом «Твин Пиксе» как будто сняты Кобриным – в эру докомпьютерного кино. Мир Кобрина и мир «Твин Пикса» - что-то вроде дистанционного монтажа.}
Хозяин дома отрезает ломоть простого серого хлеба, чуть подсушивает в тостере, намазывает теплый еще кусок майонезом и протягивает мне.
Я бы не прочь вновь почувствовать этот вкус (вкус как предчувствие). Невозможно. И дело не только в навсегда изменившемся вкусе хлеба. Воздух, свет, отношения, всё разрядилось, рассеялось, потускнело. Это естественно. И я не бы не хотела застрять в том (или другом) времени на веки вечные (да мне никто и не предлагает). Но воспоминание доставляет мне удовольствие, уж простите.
Хлеб и чай. Электричество в воздухе.
- А почему бы тебе не пойти работать в Музей кино, - говорит Олег.
- А где это?
Ей-богу, не знала!
Олег не удивился. Он никогда (кажется) не удивлялся ни моему непреодолимому невежеству, ни моей неизбывной наивности, ни моему простосердечному любопытству. Чем-то я его привлекала. Когда-то (много позже описываемых событий) Владимир Всеволодович Забродин написал, что, вероятно, был одним из экспонатов кунсткамеры Владимира Кобрина. Очень, вероятно, что Олег также поместил меня в свою кунсткамеру. Впрочем, как и я его в свою. Хе-хе.
{Режиссер Владимир Михайлович Кобрин (1942-1999). Что-то было средневековое, алхимическое в том, чего он добивался от движущейся картинки, наслаивая одну на другую, ускоряя бег пленки, растворяя изображение, разваливая. Он добивался поразительных эффектов в эру докомпьютерной графики.
Алхимический опыт по превращению, приращению, разъятию. Реальности?
Кобрин разбирает мир на части и собирает вновь. И мир движется, хотя и не совсем плавно, толчками.
В новом (2017 год) «Твин Пиксе» я увидела то же движение. Почувствовала страх мертвого, симметричного мира; неподвижного, даже если он движется. Всегда по кольцу, по замкнутому кругу. Нет развития, нет перемен, нет воздуха. Это сама смерть, и глаза ее пусты.
Картинки в новом «Твин Пиксе» как будто сняты Кобриным – в эру докомпьютерного кино. Мир Кобрина и мир «Твин Пикса» - что-то вроде дистанционного монтажа.}
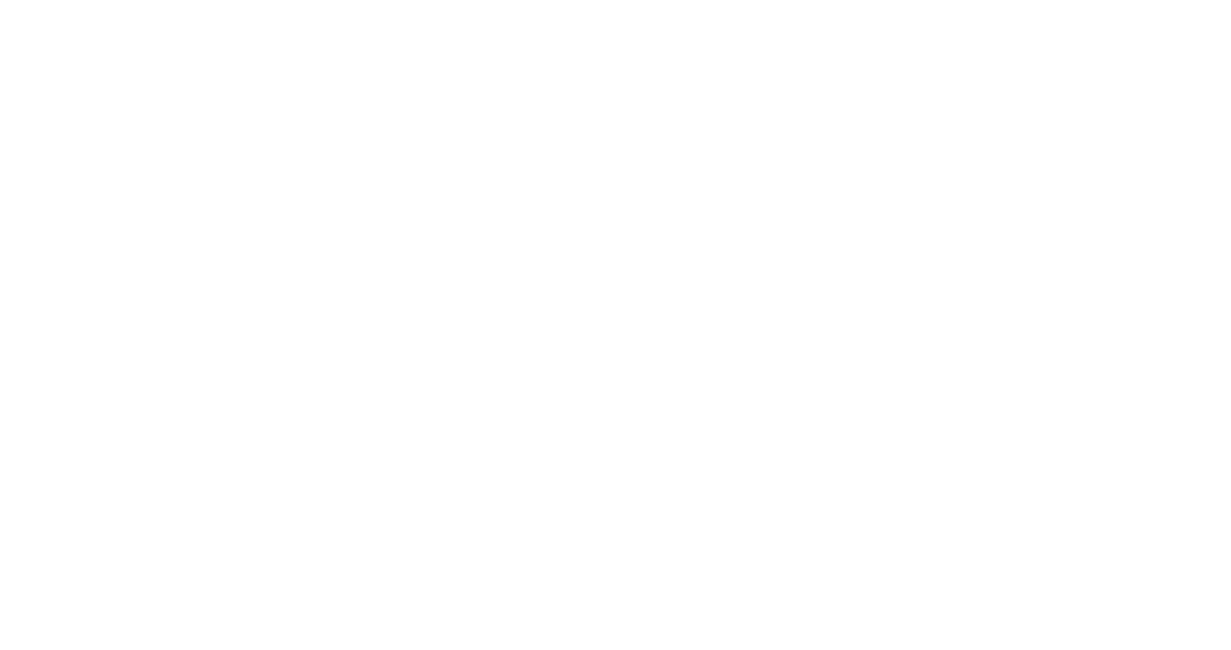
Олег Аронсон (источник фото)
Через несколько лет моей работы в Музее я вдруг вспомнила: я соврала тогда Олегу, я знала, где Музей! Знала, но забыла. Точнее, не запомнила. Мы приезжали, хотели посмотреть фильм Фассбиндера, в Музее шла ретроспектива, но билетов нам не досталось, и мы уехали, не особенно огорчившись. Я и мой тогдашний вгиковский друг. Один из экспонатов моего маленького темного подвала; моя кунсткамера располагается там. Оставим моего друга в прохладной темноте, ему здесь, на свету, не место.
Олег меня направил и не впервые.
По окончании ВГИКа (1993 год; премьера первого «Твин Пикса» в России состоится очень скоро, в ноябре, четвертого числа) я недолгое время работала в Школе телевидения, написала синопсис передачи для инвалидов; насколько я понимаю, именно по нему заключили соглашение с 1 каналом на создание серии передач. Я поработала на одной и ушла. Так вот, в Школу меня тоже направил Олег.
Время, время, какое было тогда время?
Нет ни прежнего, ни предстоящего. Вот это свобода, вот это я понимаю! Ты есть, но время застопорилось и еще не выправилось. Не тот ли это вывих, который намеревался исправить Принц Датский? Я и не помышляла. Я и не понимала. Я только чувствовала. Да, свободу. И от прошлого, и от будущего. Мир покачнулся, сорвался ветер. И что же я сделала? Нашла укрытие.
Олег меня направил и не впервые.
По окончании ВГИКа (1993 год; премьера первого «Твин Пикса» в России состоится очень скоро, в ноябре, четвертого числа) я недолгое время работала в Школе телевидения, написала синопсис передачи для инвалидов; насколько я понимаю, именно по нему заключили соглашение с 1 каналом на создание серии передач. Я поработала на одной и ушла. Так вот, в Школу меня тоже направил Олег.
Время, время, какое было тогда время?
Нет ни прежнего, ни предстоящего. Вот это свобода, вот это я понимаю! Ты есть, но время застопорилось и еще не выправилось. Не тот ли это вывих, который намеревался исправить Принц Датский? Я и не помышляла. Я и не понимала. Я только чувствовала. Да, свободу. И от прошлого, и от будущего. Мир покачнулся, сорвался ветер. И что же я сделала? Нашла укрытие.
Я не умею разделить прошлое и настоящее, они существуют вместе и никогда по отдельности. У них общий кровоток. Вообразите, что время это тело, и вы не знаете, что в нем есть прошлое, а что настоящее. Всё настоящее. Когда я настоящая, сейчас или тридцать лет назад, или завтра, если я до него доживу? Каждую секунду моей жизни.
Я не умею разделить прошлое и настоящее, они существуют вместе и никогда по отдельности. У них общий кровоток. Вообразите, что время это тело, и вы не знаете, что в нем есть прошлое, а что настоящее. Всё настоящее. Когда я настоящая, сейчас или тридцать лет назад, или завтра, если я до него доживу? Каждую секунду моей жизни.
Киномеханики Музея кино
Тени возрождаются и вновь проживают свою маленькую жизнь. Но это "вновь" бессмысленно, потому что нет никакой нови и всё повторяется в той же последовательности, в тех же подробностях, всё совпадает до секунды. Нет, это ошибка, большая ошибка, так думать, механического совпадения нет, хотя в прозвище управителей теней, в его составе, есть часть "механик".
Они и вправду управляют механизмами, - заправляют в них прозрачную ленту, включают, и лента крутится, как крутятся стрелки часов по одному и тому же кругу, без отступлений, но ведь и у часов случается замедление хода или ускорение, нет непогрешимых механизмов, как ни старайся, как ни отлаживай, сбой всё же произойдет, непредвиденная остановка, полустанок в чистом поле, тот, из моего сна.
Механики кино пьют вино и курят горькие папиросы, прозрачные ленты - воплощенный туман - их не занимают, их сознание и без того туманно, их взгляд рассеян, они путают части, и судьба призраков колеблется, накреняется, финал прошлой жизни оказывается началом нынешней, зрители свистят или думают, что так и следует, так и должно быть. Я в той части зрителей, которая покорна судьбе. Как сложится.
Зрители для механиков не существуют, когда включаются механизмы, в зале гаснет свет, публика пропадает во тьме, пропадает в буквальном смысле для механиков кино, они сидят над тёмным провалом зрительного зала в маленькой освещенной комнате, у которой когда-то было название "будка", наливают в стаканы спиртное и пьют, не закусывая, чтобы туман не рассеивался, а сгущался, в нём они существуют, а в ясном мире, строгом, расчерченном, они и сами чувствуют себя призраками, киномеханики музея кино, им посвящается этот текст.
Сеанс окончен, части фильма лежат в жестяных коробках, скорей всего, они перепутаны и название на наклейке не соответствует содержанию. Не важно. Сеанс окончен. Киномеханик гасит в будке свет и выходит на лестничную площадку. Гремит железным ключом.
Дым сигарет на площадке. Людей нет.
06.11.2014
Они и вправду управляют механизмами, - заправляют в них прозрачную ленту, включают, и лента крутится, как крутятся стрелки часов по одному и тому же кругу, без отступлений, но ведь и у часов случается замедление хода или ускорение, нет непогрешимых механизмов, как ни старайся, как ни отлаживай, сбой всё же произойдет, непредвиденная остановка, полустанок в чистом поле, тот, из моего сна.
Механики кино пьют вино и курят горькие папиросы, прозрачные ленты - воплощенный туман - их не занимают, их сознание и без того туманно, их взгляд рассеян, они путают части, и судьба призраков колеблется, накреняется, финал прошлой жизни оказывается началом нынешней, зрители свистят или думают, что так и следует, так и должно быть. Я в той части зрителей, которая покорна судьбе. Как сложится.
Зрители для механиков не существуют, когда включаются механизмы, в зале гаснет свет, публика пропадает во тьме, пропадает в буквальном смысле для механиков кино, они сидят над тёмным провалом зрительного зала в маленькой освещенной комнате, у которой когда-то было название "будка", наливают в стаканы спиртное и пьют, не закусывая, чтобы туман не рассеивался, а сгущался, в нём они существуют, а в ясном мире, строгом, расчерченном, они и сами чувствуют себя призраками, киномеханики музея кино, им посвящается этот текст.
Сеанс окончен, части фильма лежат в жестяных коробках, скорей всего, они перепутаны и название на наклейке не соответствует содержанию. Не важно. Сеанс окончен. Киномеханик гасит в будке свет и выходит на лестничную площадку. Гремит железным ключом.
Дым сигарет на площадке. Людей нет.
06.11.2014
На фотографиях - Сергей Эйзенштейн; детская посуда С. Эйзенштейна
(экспозиция Музея кино).
(экспозиция Музея кино).
Музей кино
(текст на старом сайте Музея кино)
(текст на старом сайте Музея кино)
Я закончила ВГИК в 1993 году, сценарный факультет. Что делать дальше – не представляла. Показала свои сценарии тем и этим, отклика не было. Я вообще жила тогда в глухом мире. Он меня не слышал. Я была человек-призрак, абсолютно не приспособленный к серьезной, взрослой жизни с ее конкурентной борьбой. Олег Аронсон (когда-то мы с ним учились прикладной математике) надоумил меня попроситься в Музей кино, авось примут. Если бы не Олег, я бы не догадалась.
В сентябре 1994-го я набралась храбрости и пришла в Музей. Сделала головокружительную карьеру от лаборанта до заведующей рукописным отделом (сегодня, 15 февраля 2011 года, в моем хозяйстве 154 обработанных архива, больше тридцати ждут своей очереди). Я благополучно сочиняю свои рассказы, их печатают в «толстых» литературных журналах; по моим сценариям сняли три фильма, один из которых смотреть невозможно, а два других чуть-чуть похожи на кино. Я готовлю научные публикации для журналов «Кинограф» и «Киноведческие записки». Жизнь удалась.
Если бы меня спросили, почему я здесь работаю столько лет, что меня в Музее держит, кроме собственно работы, которая и в самом деле бывает увлекательной (время от времени), я бы ответила, что держат меня люди. Самое главное сокровище Музея кино – люди, которые в нем работают. Наверно, это странно звучит по нынешним временам, но я до сих пор дружу с людьми, с которыми меня свела судьба в Музее кино. Многие давным-давно ушли из Музея по разным своим причинам, но связь – не прерывается. Музей нас сделал кем-то вроде родственников. Мы переписываемся, созваниваемся, встречаемся. Бог мой, мы даже думаем друг о друге!
В сентябре 1994-го я набралась храбрости и пришла в Музей. Сделала головокружительную карьеру от лаборанта до заведующей рукописным отделом (сегодня, 15 февраля 2011 года, в моем хозяйстве 154 обработанных архива, больше тридцати ждут своей очереди). Я благополучно сочиняю свои рассказы, их печатают в «толстых» литературных журналах; по моим сценариям сняли три фильма, один из которых смотреть невозможно, а два других чуть-чуть похожи на кино. Я готовлю научные публикации для журналов «Кинограф» и «Киноведческие записки». Жизнь удалась.
Если бы меня спросили, почему я здесь работаю столько лет, что меня в Музее держит, кроме собственно работы, которая и в самом деле бывает увлекательной (время от времени), я бы ответила, что держат меня люди. Самое главное сокровище Музея кино – люди, которые в нем работают. Наверно, это странно звучит по нынешним временам, но я до сих пор дружу с людьми, с которыми меня свела судьба в Музее кино. Многие давным-давно ушли из Музея по разным своим причинам, но связь – не прерывается. Музей нас сделал кем-то вроде родственников. Мы переписываемся, созваниваемся, встречаемся. Бог мой, мы даже думаем друг о друге!
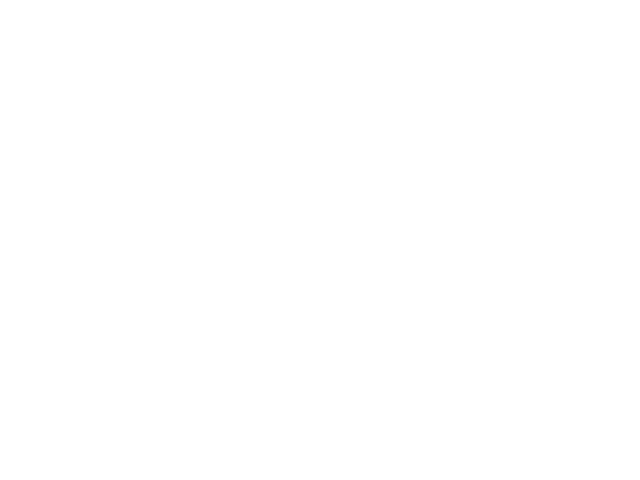
Коллектив Музея кино
Первый человек, которого я увидела, когда пришла в Музей, был Джеймс Манн. Он тогда учился в Лондонском университете и приехал к нам на стажировку. Работал в отделе анимации у Светы Ким и Бориса Дмитриевича Павлова. Джимка был совсем юный и говорил с мягким, едва уловимым акцентом. Мне запомнилось, как слякотной московской зимой он, чтобы не наследить в Музее, снимал свои огромные ботинки и ставил их на газету. Газета мгновенно промокала. Большой, розовощекий Джимка и маленькая Светочка ходили вместе в РГАЛИ переписывать дневники Цехановского. Как англичанин ухитрялся разгадывать его почерк, не представляю.
На Рождество Джимка уезжал домой, в Манчестер. Возвращался с чем-то вроде рождественского кекса, пекла его Джимкина бабушка самолично – для нас. Вкус помню до сих пор. Коньячно-ромово-изюмный.
В понедельник после Пасхи Борис Дмитриевич приносил куличи. Пек их он сам. Тесто замешивал в ведрах. Куличи выходили превосходные, сдобные, изюмные, праздничные. В нашем сумрачном коридоре пахло ванилью.
Мы разбирали архивы, делали выставки, писали аннотации к кинопоказам, проводили экскурсии, болтали, гоняли чаи, смотрели фильмы, ходили на выставки.
В Музее всегда была живая жизнь, не только бумажная. Заходили в гости мультипликаторы Иван Максимов, Михаил Алдашин, Александр Петров, Юрий Норштейн. Именно в нашем Музее прошли их первые художественные выставки.
На Рождество Джимка уезжал домой, в Манчестер. Возвращался с чем-то вроде рождественского кекса, пекла его Джимкина бабушка самолично – для нас. Вкус помню до сих пор. Коньячно-ромово-изюмный.
В понедельник после Пасхи Борис Дмитриевич приносил куличи. Пек их он сам. Тесто замешивал в ведрах. Куличи выходили превосходные, сдобные, изюмные, праздничные. В нашем сумрачном коридоре пахло ванилью.
Мы разбирали архивы, делали выставки, писали аннотации к кинопоказам, проводили экскурсии, болтали, гоняли чаи, смотрели фильмы, ходили на выставки.
В Музее всегда была живая жизнь, не только бумажная. Заходили в гости мультипликаторы Иван Максимов, Михаил Алдашин, Александр Петров, Юрий Норштейн. Именно в нашем Музее прошли их первые художественные выставки.
Когда я пришла в Музей, рукописный отдел возглавляла Марина Карасёва.
Первая наша с Мариной архивная (научная) публикации была: записки С.М.Эйзенштейна адресованные Э.В.Тобак. Эсфирь Вениаминовна работала монтажером у Эйзенштейна (на «Бежином луге», «Александре Невском», «Иване Грозном»). Она была монтажером и у других режиссеров, она всю жизнь проработал монтажером, но нас-то интересовал Эйзенштейн. Нас же всех великие интересуют. Эйзенштейн присылал Тобак записки по работе, часто ироничные, иногда грустные. Одну подписал так: «Ваш ученик профессор Эйзенштейн». Когда «Бежин луг» приказано было смыть, она по просьбе режиссера «настригла картинок», кадров. Они и сохранили образ фильма.
Я, разумеется, никогда не видела Эйзенштейна, но Эсфирь Вениаминовну я видела, дома у нее бывала, доказывала (мы с Маринкой доказывали), что хранимые ею записки не пропадут в Музее, не сгинут… Она для меня – не строчки в биографии, не фотография на удостоверении личности, а живой, реально существовавший человек.
Люди важнее бумаг.
Первая наша с Мариной архивная (научная) публикации была: записки С.М.Эйзенштейна адресованные Э.В.Тобак. Эсфирь Вениаминовна работала монтажером у Эйзенштейна (на «Бежином луге», «Александре Невском», «Иване Грозном»). Она была монтажером и у других режиссеров, она всю жизнь проработал монтажером, но нас-то интересовал Эйзенштейн. Нас же всех великие интересуют. Эйзенштейн присылал Тобак записки по работе, часто ироничные, иногда грустные. Одну подписал так: «Ваш ученик профессор Эйзенштейн». Когда «Бежин луг» приказано было смыть, она по просьбе режиссера «настригла картинок», кадров. Они и сохранили образ фильма.
Я, разумеется, никогда не видела Эйзенштейна, но Эсфирь Вениаминовну я видела, дома у нее бывала, доказывала (мы с Маринкой доказывали), что хранимые ею записки не пропадут в Музее, не сгинут… Она для меня – не строчки в биографии, не фотография на удостоверении личности, а живой, реально существовавший человек.
Люди важнее бумаг.
Всё дело в смысле. Если не знать грамоте, не поймешь что это за листок такой с черными знаками. Самое ему место – в печи. Старая бумага отлично горит. Чтобы бумажка со знаками обрела смысл, надо знать грамоте. Но этого недостаточно для понимания, скажем, философского трактата. Старая фотография обретает смысл, когда родители говорят: а вот эта девочка в пальто на вырост – я. На крыльце сидит твой дед. Он был машинист. Без этих объяснений фотография смысла не имеет. Точнее, она может обрести какой-то другой смысл, но тот, первоначальный, утрачивается. И эта утрата невосполнима. Чем больше подобного рода утрат, чёрных зияющих ран, тем меньше надежды понять. Не только смысл старых текстов и картинок
(в том числе, движущихся). Но и самих себя. В чёрный провал рушится
не только прошлое, но и будущее, а настоящее трепещет на краю
и удержаться ему не суждено. Смысл понимают немногие.
Единицы. Их надо бы ценить.
(в том числе, движущихся). Но и самих себя. В чёрный провал рушится
не только прошлое, но и будущее, а настоящее трепещет на краю
и удержаться ему не суждено. Смысл понимают немногие.
Единицы. Их надо бы ценить.
Всё дело в смысле. Если не знать грамоте, не поймешь что это за листок такой с черными знаками. Самое ему место – в печи. Старая бумага отлично горит. Чтобы бумажка со знаками обрела смысл, надо знать грамоте. Но этого недостаточно для понимания, скажем, философского трактата. Старая фотография обретает смысл, когда родители говорят: а вот эта девочка в пальто на вырост – я. На крыльце сидит твой дед. Он был машинист. Без этих объяснений фотография смысла не имеет. Точнее, она может обрести какой-то другой смысл, но тот, первоначальный, утрачивается. И эта утрата невосполнима. Чем больше подобного рода утрат, чёрных зияющих ран, тем меньше надежды понять. Не только смысл старых текстов и картинок
(в том числе, движущихся). Но и самих себя. В чёрный провал рушится
не только прошлое, но и будущее, а настоящее трепещет на краю
и удержаться ему не суждено. Смысл понимают немногие.
Единицы. Их надо бы ценить.
(в том числе, движущихся). Но и самих себя. В чёрный провал рушится
не только прошлое, но и будущее, а настоящее трепещет на краю
и удержаться ему не суждено. Смысл понимают немногие.
Единицы. Их надо бы ценить.
Чуть позже меня в Музей пришла Лена Маневич, Елена Иосифовна. У нас она работала комплектатором. Помню, как мы с ней ездили забирать архив Оттена. Николай Давыдович вел обширнейшую переписку. Не так давно я опубликовала письма А.К.Гладкова. Письма театроведа Шнейдермана вот-вот выйдут в Петербурге. Так что архивы действительно живут. Занимают чьи-то умы, чье-то воображение, иногда – распоряжаются нашей жизнью.
Старики недоверчивы. Они хотят точно знать, что их архивы сохранят, что эти бумаги еще поживут своей жизнью. Старики хотят, чтобы их помнили. Конечно, мы все хотим, потому музеи и существуют – память человечества.
Лене старики доверяли. Они не просто свои бумаги или фотографии ей доверяли, – свою жизнь. Не Музею вручали, а ей лично. Она много лет проработала художником по костюмам на «Мосфильме», ее отец был сценаристом, преподавал во ВГИКе. Они хорошо Лену знали.
Как-то раз мы сидели с Леной на лестнице, на площадке. Лена курила (огонек сигареты мне и сейчас видится). Я спросила:
Лена, зачем вы работаете в Музее кино? Зарплата маленькая.
Зарплата маленькая, - согласилась Лена. И затянулась. И пепел стряхнула с сигареты.
Так судьба сложилась, - примерно такой был в конце концов её мне (или себе) ответ.
Старики недоверчивы. Они хотят точно знать, что их архивы сохранят, что эти бумаги еще поживут своей жизнью. Старики хотят, чтобы их помнили. Конечно, мы все хотим, потому музеи и существуют – память человечества.
Лене старики доверяли. Они не просто свои бумаги или фотографии ей доверяли, – свою жизнь. Не Музею вручали, а ей лично. Она много лет проработала художником по костюмам на «Мосфильме», ее отец был сценаристом, преподавал во ВГИКе. Они хорошо Лену знали.
Как-то раз мы сидели с Леной на лестнице, на площадке. Лена курила (огонек сигареты мне и сейчас видится). Я спросила:
Лена, зачем вы работаете в Музее кино? Зарплата маленькая.
Зарплата маленькая, - согласилась Лена. И затянулась. И пепел стряхнула с сигареты.
Так судьба сложилась, - примерно такой был в конце концов её мне (или себе) ответ.
Напишу еще об одном человеке. Он тоже работал в Музее, но мы не встречаемся.
Он мне однажды сказал, что в человека можно влюбиться за одно только запястье, за жест, за интонацию, за что-то совсем другим невидимое, неясное, и самому-то влюбленному – смутное, неопределимое.
Вадим Павлихин составлял программы для кинопоказов (когда-то у Музея были свои залы, надеюсь, что еще будут). Он неизменно покупал нам, «девочкам», первую клубнику. Очень хорошо помню, как поняла, что он умер. То есть, совершенно твердо поняла, без сомнений. Хотя точно еще не знала и могла надеяться. Смотрела невидяще в окно с идиотской мыслью: больше он не пройдет по нашему сумеречному коридору в белых штанах. Вспомнились отчего-то его белые штаны. Вадим был щеголь. Или, точнее, - был бы. Если бы. У него все скорее в сослагательном наклонении, вся жизнь так прошла, - как возможность чего-то. Несбыточная.
Я говорю здесь именно об этих людях, потому что они стали мне близки. Потому что они – едва ли не самые важные люди моей жизни. Джеймс, Света, Лена. Марина. Бори уже нет с нами.
Лариса Григорьевна, Владимир Всеволодович, Шурочка – я счастлива, что встретилась с вами.
Он мне однажды сказал, что в человека можно влюбиться за одно только запястье, за жест, за интонацию, за что-то совсем другим невидимое, неясное, и самому-то влюбленному – смутное, неопределимое.
Вадим Павлихин составлял программы для кинопоказов (когда-то у Музея были свои залы, надеюсь, что еще будут). Он неизменно покупал нам, «девочкам», первую клубнику. Очень хорошо помню, как поняла, что он умер. То есть, совершенно твердо поняла, без сомнений. Хотя точно еще не знала и могла надеяться. Смотрела невидяще в окно с идиотской мыслью: больше он не пройдет по нашему сумеречному коридору в белых штанах. Вспомнились отчего-то его белые штаны. Вадим был щеголь. Или, точнее, - был бы. Если бы. У него все скорее в сослагательном наклонении, вся жизнь так прошла, - как возможность чего-то. Несбыточная.
Я говорю здесь именно об этих людях, потому что они стали мне близки. Потому что они – едва ли не самые важные люди моей жизни. Джеймс, Света, Лена. Марина. Бори уже нет с нами.
Лариса Григорьевна, Владимир Всеволодович, Шурочка – я счастлива, что встретилась с вами.
Светлана Ким
Владимир Всеволодович Забродин
“
Музей – не гарантия вечной жизни. Музей не для будущего. И не для прошлого. Но он помогает увидеть и прошлое, и будущее. Разглядеть. Не потеряться во времени. Не пропасть в истории. Пока люди живы. Пока хоть кто-то.
“
Музей – не гарантия вечной жизни. Музей не для будущего. И не для прошлого. Но он помогает увидеть и прошлое, и будущее. Разглядеть. Не потеряться во времени. Не пропасть в истории. Пока люди живы. Пока хоть кто-то.