Мир был самый простой...
Воспоминания Елены Долгопят о детстве
(дневниковые записи, заметки, эссе)
(дневниковые записи, заметки, эссе)
Мир был самый простой...
Воспоминания Елены Долгопят о детстве
(дневниковые записи, заметки, эссе)
(дневниковые записи, заметки, эссе)
Муром
Зиму я не видела.
Ни зимы, ни весны, ни осени, только лето. Иногда холодное, дождливое (бегала в пальто, лепила человечков из глины возле колонки, сушила их на краешке плиты, человечки трескались от жара; печку топили, окна плакали). Река от нас была далеко. Дождаться автобус, втиснуться, доехать до рынка, спуститься к понтонному мосту, шагать на другую сторону, к золотому песку. Мама говорила, что когда-то, до моего рождения, у нас на Казанке слышались пароходные гудки. Долгие, протяжные. При мне свистели тепловозы. Я слушала их голоса.
Этот город был самым важным местом моей крохотной жизни. Единственный город, куда я возвращалась (на летние каникулы, с родителями). Все прочие (Карымская, Чита, Забайкальск, затем Фрунзе, Усть-Каменогорск) исчезали навсегда. Муром единственный меня помнил.
Здесь я появилась на свет. 28 декабря стародавнего года. Может, поэтому я так хотела увидеть здешнюю зиму? Старый дом. Тень яблони на боку русской печки. Печку белили известкой. И потолки белили известкой. А деревянные половицы красили коричневой масляной краской. А стены оклеивали бумажными обоями.
Бог меня услышал. Мне выпал в Муроме круглый полновесный год, год-шар. Целый, без щербинки. Я в нем увидела всю себя. Оказалось, что я - это и мама, и бабушка, и дядя Витя, и старая школа, куда они все ходили. Учителя меня называли (иногда) маминой фамилией: Молотихина.
Наши времена совпадали.
Зеркало. В деревянной раме без прикрас. В мой рост. Мы все в нем.
18.08.2021
Ни зимы, ни весны, ни осени, только лето. Иногда холодное, дождливое (бегала в пальто, лепила человечков из глины возле колонки, сушила их на краешке плиты, человечки трескались от жара; печку топили, окна плакали). Река от нас была далеко. Дождаться автобус, втиснуться, доехать до рынка, спуститься к понтонному мосту, шагать на другую сторону, к золотому песку. Мама говорила, что когда-то, до моего рождения, у нас на Казанке слышались пароходные гудки. Долгие, протяжные. При мне свистели тепловозы. Я слушала их голоса.
Этот город был самым важным местом моей крохотной жизни. Единственный город, куда я возвращалась (на летние каникулы, с родителями). Все прочие (Карымская, Чита, Забайкальск, затем Фрунзе, Усть-Каменогорск) исчезали навсегда. Муром единственный меня помнил.
Здесь я появилась на свет. 28 декабря стародавнего года. Может, поэтому я так хотела увидеть здешнюю зиму? Старый дом. Тень яблони на боку русской печки. Печку белили известкой. И потолки белили известкой. А деревянные половицы красили коричневой масляной краской. А стены оклеивали бумажными обоями.
Бог меня услышал. Мне выпал в Муроме круглый полновесный год, год-шар. Целый, без щербинки. Я в нем увидела всю себя. Оказалось, что я - это и мама, и бабушка, и дядя Витя, и старая школа, куда они все ходили. Учителя меня называли (иногда) маминой фамилией: Молотихина.
Наши времена совпадали.
Зеркало. В деревянной раме без прикрас. В мой рост. Мы все в нем.
18.08.2021
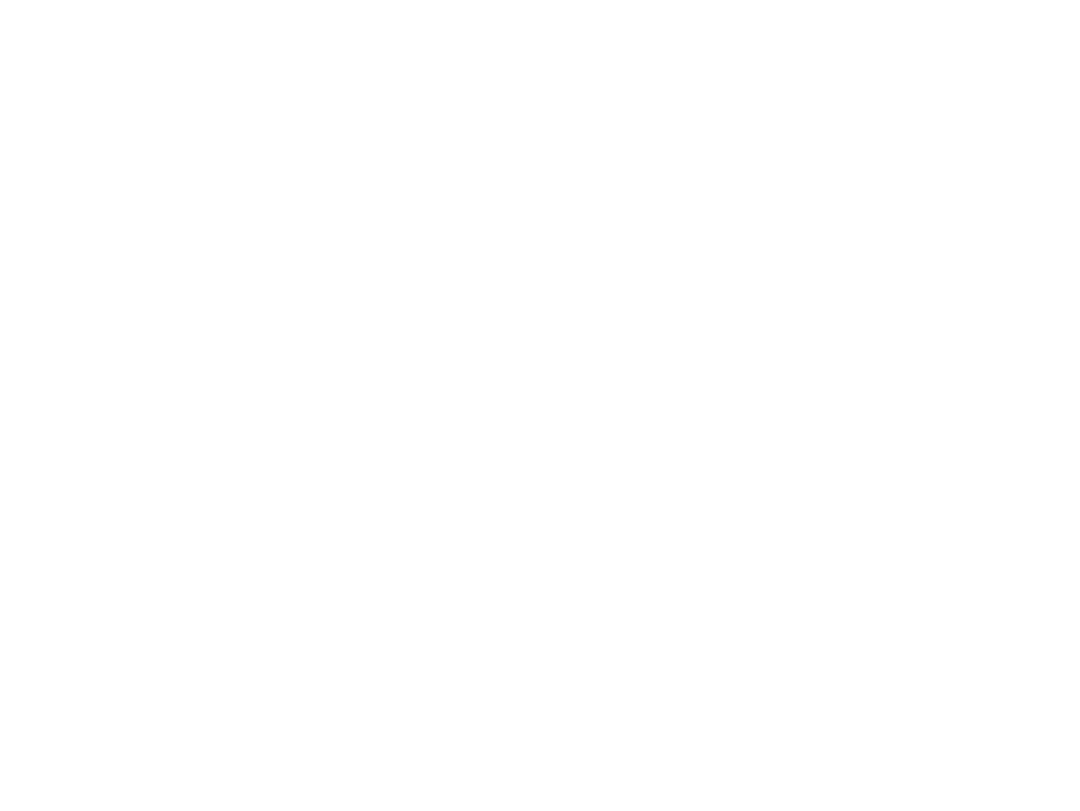
С родителями. 1967 г. (4 года)
***
Лето было дождливым, влажным, холодным, я выбежала в сад и поразилась, разросшейся, выше меня поднявшейся траве. О лете говорили взрослые. Они сидели в доме за желтым светящимся окном, пили чай из круглых блюдец. Рассказывали о том, чего было, кто жив, кто умер. А Ленка-то, Ленка-то как выросла. Это обо мне. Я эти разговоры любила, любила наше летнее возвращение в старый город и в старый дом, в старые времена.
Добирались мы долго через большую страну, на скором поезде, мимо озера Байкал, по железным мостам через множество рек, с пересадкой в необъятной Москве. Из года в год мы так ездили к бабушке на лето. Буфет, зеркало, телевизор Рекорд, антенна на железной крыше. Тогдашняя жизнь никогда ведь не повторится (по крайней мере со мной). Но казалось, что она навсегда. Мне думается, даже взрослые были как дети и верили в постоянство, в незыблемость этого маленького мира: дороги от станции мимо заводских корпусов, огненного чая в круглых блюдцах, варенья из вишни.
Мамина детская фотография на буфете. Бабушка пудрила еще совсем не старое лицо. Я видела себя в зеркале, и собственные глаза мне казались темными и глубокими.
Мир был самый простой. Деревянные дома на четыре семьи. Яблони, вишня, смородина, клубника, картошка, морковь, золотые шары, флоксы, розовый куст, приблудная кошка; город, не деревня, заводская окраина. Клуб. Парк. Школа. Памятник летчику Гастелло.
В конце августа бабушки оставались одни в своем раю. Писали письма детям и внуками, вкладывали в конверты АВИА. Никакой авиа-почты в городе не было, письма везли в багажных вагонах медленных пассажирских поездов.
На улице Жданова, у парка 50-летия Октября, стоял на вечном приколе самый настоящий пассажирский самолет, для местной ребятни он был невидалью. Мы забирались в салон, смотрели в иллюминаторы, на привычные, близкие пятиэтажки, как будто из дальнего далека, как будто в подзорную трубу. Как будто мы были пришельцы. Из будущего, конечно.
14.01.2021
Добирались мы долго через большую страну, на скором поезде, мимо озера Байкал, по железным мостам через множество рек, с пересадкой в необъятной Москве. Из года в год мы так ездили к бабушке на лето. Буфет, зеркало, телевизор Рекорд, антенна на железной крыше. Тогдашняя жизнь никогда ведь не повторится (по крайней мере со мной). Но казалось, что она навсегда. Мне думается, даже взрослые были как дети и верили в постоянство, в незыблемость этого маленького мира: дороги от станции мимо заводских корпусов, огненного чая в круглых блюдцах, варенья из вишни.
Мамина детская фотография на буфете. Бабушка пудрила еще совсем не старое лицо. Я видела себя в зеркале, и собственные глаза мне казались темными и глубокими.
Мир был самый простой. Деревянные дома на четыре семьи. Яблони, вишня, смородина, клубника, картошка, морковь, золотые шары, флоксы, розовый куст, приблудная кошка; город, не деревня, заводская окраина. Клуб. Парк. Школа. Памятник летчику Гастелло.
В конце августа бабушки оставались одни в своем раю. Писали письма детям и внуками, вкладывали в конверты АВИА. Никакой авиа-почты в городе не было, письма везли в багажных вагонах медленных пассажирских поездов.
На улице Жданова, у парка 50-летия Октября, стоял на вечном приколе самый настоящий пассажирский самолет, для местной ребятни он был невидалью. Мы забирались в салон, смотрели в иллюминаторы, на привычные, близкие пятиэтажки, как будто из дальнего далека, как будто в подзорную трубу. Как будто мы были пришельцы. Из будущего, конечно.
14.01.2021
Пять минут любительской съемки. Выгоревшие краски, полупрозрачные тени. Круглое улыбающееся лицо бабы Саши (моей прабабушки), громадный пень от громадного тополя. Соседка за штакетником. Мои разбитые коленки. Мама что-то доказывает. Бабушка поправляет платье и смотрит в камеру. Внучка тети Оли лузгает семечки. Ветер колышет траву.
Самый удивительный фильм – для меня.
Волшебство движущихся картинок.
Самый удивительный фильм – для меня.
Волшебство движущихся картинок.
Пять минут любительской съемки. Выгоревшие краски, полупрозрачные тени. Круглое улыбающееся лицо бабы Саши (моей прабабушки), громадный пень от громадного тополя. Соседка за штакетником. Мои разбитые коленки. Мама что-то доказывает. Бабушка поправляет платье и смотрит в камеру. Внучка тети Оли лузгает семечки. Ветер колышет траву.
Самый удивительный фильм – для меня.
Волшебство движущихся картинок.
Самый удивительный фильм – для меня.
Волшебство движущихся картинок.
Чита
В Чите мы жили в отдельной квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Две смежные комнаты, балкон, санузел совмещен. Кладовка. Окна смотрели на медицинский институт. Дорога, сквер (танк на постаменте). Зимой в мороз помутившийся воздух поглощал институт. Он становился невидимкой для наблюдателя из наших окон. На балконе стояла картонная коробка с мороженым. Вечерами мы собирались перед телевизором: черно-белый «Огонек» на тонких ножках. У огонька собирались, возле очага, смотрели в экран и ели мороженое. «Помедленней. Никто за тобой не гонится». Мылись, как и прежде, раз в неделю. Ни горячей воды, ни газа в доме не было. Готовила мама на маленькой электрической плитке, а титан с водой папа топил дровами, они хранились в подвале, на каждую квартиру полагался отсек. Отсек запирался. Газ был только на первом этаже, выше тянуть трубы опасались. Не раз я наблюдала, как дрожат в серванте рюмки, позвякивают друг о друга (ну, будем), а люстра покачивается под потолком. Как будто ты на корабле, в каюте, над Марианской впадиной (только что прочитана книга о глубоководных рыбах). Крохотное землетрясение, земледрожание. Сейсмическая неустойчивость.
После субботнего купания, долгого, тщательного, основательного, садились за стол, пили чай с вареньем. Свежезаваренный, янтарный. Одну чашку и другую. И третью. «Сахару не клади так много».
Нашему дому морозы были не страшны. Мы соседствовали (через забор) с военным госпиталем, грелись от одной котельной, для госпиталя угля не жалели.
Два пятиэтажных дома и госпитальный забор образовывали наш двор. Гаражи, тополя, скамейки у подъездов, беседка, горка, ее заливали зимой; в любой мороз мы каталась, неистово, кто на картонке, кто так, кто на ящике из металлических прутьев, ящики таскали от молочного магазина; в них перевозили молоко, кефир, сливки в стеклянных бутылках с разноцветными крышечками из плотной фольги. Белая - молоко, золотая - сливки, зеленая - кефир, в полоску - хм, не помню. Простокваша? Ряженка? Хороший был магазин, небольшой, чистый. И фикус стоял в углу. Представляете, на улице мороз за сорок, а здесь тропическая темная зелень. Стоишь в очереди, отогреваешься.
Жила я самостоятельной жизнью. На шее тесемка, на тесемке ключ. Свет настольной лампы, шелест книжной страницы, горько-сладкое, нет, сладко-горькое, брусничное варенье. Дом. Я уставала быть в книжном мире, и бежала во двор. Играли в прятки, в казаки-разбойники, играли в «Вия» (поднимите мне веки), в олимпийские игры, в города, в море волнуется раз. У меня до сих пор хранится темно-красная, крупная, граненая бусина, подарок дворовой подружки перед моим отъездом навсегда. Папу переводили в Киргизию. Звали подружку Олей. Мы не переписывались.
С нами не то чтобы играла, но проводила время девочка постарше, в инвалидном кресле. Ее звали Галя. Как-то раз я обозвала ее дурой. Не помню причины. Галя обиделась, пожаловалась родителям (я их не помню; может быть не родителям, а, к примеру, бабушке). Они поговорили с моей мамой, она рассердилась на меня, а я сказала, что ничего такого не говорила, что Гале послышалось.
Я держалась твердо. В конце концов Галя согласилась: послышалось. Мы, по-прежнему, проводили вместе время. И никакой тени между нами я не чувствовала.
21.07.2021
После субботнего купания, долгого, тщательного, основательного, садились за стол, пили чай с вареньем. Свежезаваренный, янтарный. Одну чашку и другую. И третью. «Сахару не клади так много».
Нашему дому морозы были не страшны. Мы соседствовали (через забор) с военным госпиталем, грелись от одной котельной, для госпиталя угля не жалели.
Два пятиэтажных дома и госпитальный забор образовывали наш двор. Гаражи, тополя, скамейки у подъездов, беседка, горка, ее заливали зимой; в любой мороз мы каталась, неистово, кто на картонке, кто так, кто на ящике из металлических прутьев, ящики таскали от молочного магазина; в них перевозили молоко, кефир, сливки в стеклянных бутылках с разноцветными крышечками из плотной фольги. Белая - молоко, золотая - сливки, зеленая - кефир, в полоску - хм, не помню. Простокваша? Ряженка? Хороший был магазин, небольшой, чистый. И фикус стоял в углу. Представляете, на улице мороз за сорок, а здесь тропическая темная зелень. Стоишь в очереди, отогреваешься.
Жила я самостоятельной жизнью. На шее тесемка, на тесемке ключ. Свет настольной лампы, шелест книжной страницы, горько-сладкое, нет, сладко-горькое, брусничное варенье. Дом. Я уставала быть в книжном мире, и бежала во двор. Играли в прятки, в казаки-разбойники, играли в «Вия» (поднимите мне веки), в олимпийские игры, в города, в море волнуется раз. У меня до сих пор хранится темно-красная, крупная, граненая бусина, подарок дворовой подружки перед моим отъездом навсегда. Папу переводили в Киргизию. Звали подружку Олей. Мы не переписывались.
С нами не то чтобы играла, но проводила время девочка постарше, в инвалидном кресле. Ее звали Галя. Как-то раз я обозвала ее дурой. Не помню причины. Галя обиделась, пожаловалась родителям (я их не помню; может быть не родителям, а, к примеру, бабушке). Они поговорили с моей мамой, она рассердилась на меня, а я сказала, что ничего такого не говорила, что Гале послышалось.
Я держалась твердо. В конце концов Галя согласилась: послышалось. Мы, по-прежнему, проводили вместе время. И никакой тени между нами я не чувствовала.
21.07.2021
***
Мылись раз в неделю по субботам, в поселковой бане, занимали очередь и ждали. Долго. Час. Или больше. Народу много в поселке, немаленький, станция на советско-китайской границе, ходит скорый поезд из Москвы в Пекин и обратно. Позже, из Читы, мы ездили на нем до Москвы.
Запомнился странный случай в коридоре вагона. Я торчала у окна, держалась за поручень. Мимо проходили китайцы (вероятно, в ресторан или обратно), один из них коснулся зажженной сигаретой моей руки. Я помню его глаза, или я их себе придумала. Я была уверена, что он обжег меня нарочно. А может быть, вагон качнуло. Я не вскрикнула, не отдернула руку. Он смотрел мне в глаза, крохотную долю секунды.
Зимой (до или после ожога?) нас, школьников младших классов, возили на экскурсию в воинскую часть, наверное, показывали, как живут солдаты, чем заняты. Мне запомнился наш обед в солдатской столовой: картошка, мясо, квашеная капуста. И запомнился щит, посвященный событиям на острове Даманском, фотографии и пояснительные тексты. Убитые китайцами наши пограничники, выколотые глаза.
Моя читинская школа была центровой, лучшей, нас учили китайскому со второго класса. Помню, как я поразилась, поняв вдруг китайца в каком-то черно-белом фильме. Он здоровался с нашим разведчиком (или разведчик здоровался с ним).
Помню узнавание, помню мизансцену (у огня), а слова забыла. Не память, куча обломков, жизнь из них не сложишь.
15 июля 2021
Запомнился странный случай в коридоре вагона. Я торчала у окна, держалась за поручень. Мимо проходили китайцы (вероятно, в ресторан или обратно), один из них коснулся зажженной сигаретой моей руки. Я помню его глаза, или я их себе придумала. Я была уверена, что он обжег меня нарочно. А может быть, вагон качнуло. Я не вскрикнула, не отдернула руку. Он смотрел мне в глаза, крохотную долю секунды.
Зимой (до или после ожога?) нас, школьников младших классов, возили на экскурсию в воинскую часть, наверное, показывали, как живут солдаты, чем заняты. Мне запомнился наш обед в солдатской столовой: картошка, мясо, квашеная капуста. И запомнился щит, посвященный событиям на острове Даманском, фотографии и пояснительные тексты. Убитые китайцами наши пограничники, выколотые глаза.
Моя читинская школа была центровой, лучшей, нас учили китайскому со второго класса. Помню, как я поразилась, поняв вдруг китайца в каком-то черно-белом фильме. Он здоровался с нашим разведчиком (или разведчик здоровался с ним).
Помню узнавание, помню мизансцену (у огня), а слова забыла. Не память, куча обломков, жизнь из них не сложишь.
15 июля 2021
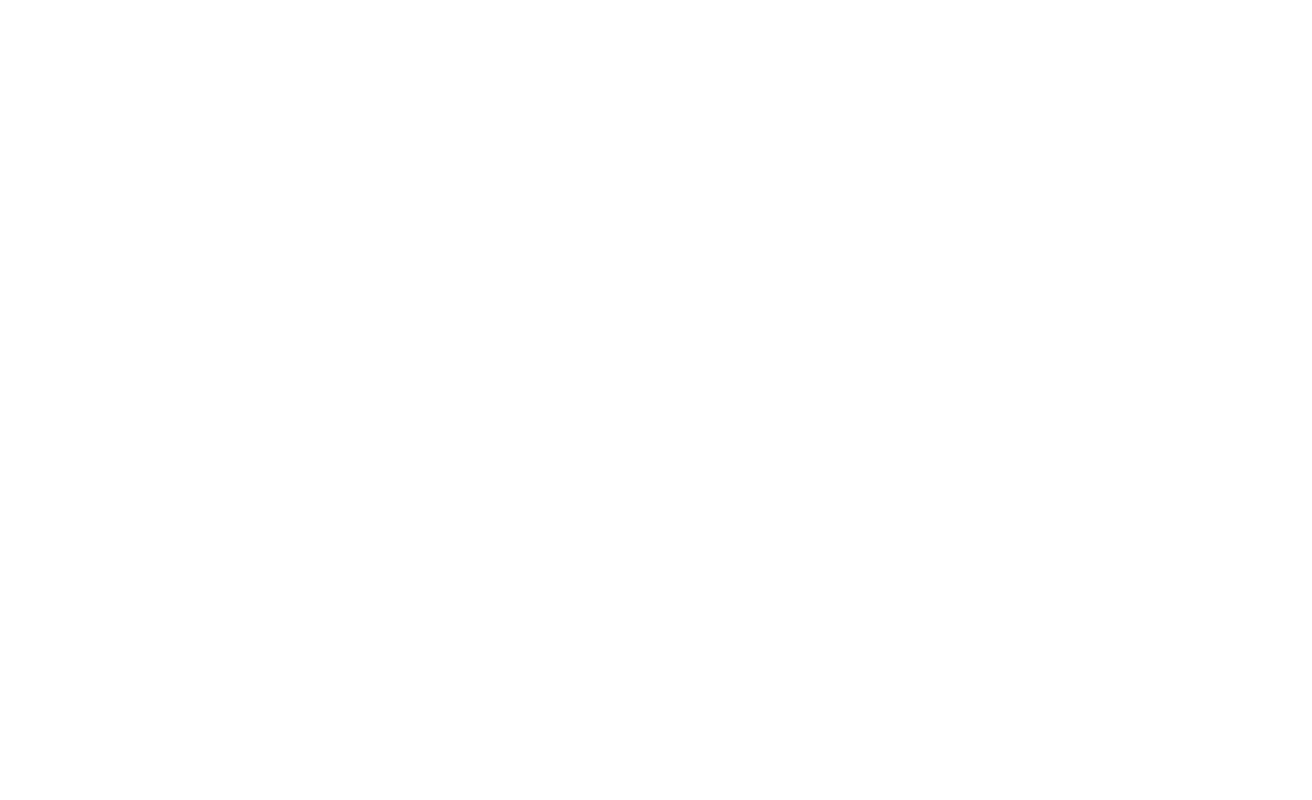
В Читинской школе
***
Однажды я ушла из дома. За компанию позвала с собой девочку из нашего подъезда. Я была классе в третьем, она во втором. Не знаю, почему уходила она, а почему я, не скажу. Город был Чита. Сопки вокруг. Туда мы и решили направиться. Вечером, после школы. Я пишу «мы», но решала всё я.
Собрались. Я положила в карман короткого пальтеца спички. Взяла молоко. Треугольный пакет, пирамидка. Взяла с собой ножницы. А нож? Не помню. Хлеб? Вероятно. И в чем мы несли молоко, вероятный хлеб? В авоське, скорее всего. Только в нашем словаре не было такого слова, «авоська». Мы говорили «сетка».
Мы поели (подкрепились) после школы, переоделись, собрались и двинулись в путь.
По воскресеньям я ходила с родителями в сопки гулять, и летом, и зимой (на санках, я с папой, летим прямо на сосну, ааааа!). Добирались до Орбиты, здоровенной тарелки-антенны, папа говорил, что она передает телесигнал. Я знала, что без такой антенны, телевизор мертв, так было в Забайкальске, бессмысленная штука в углу.
Мы с подельницей (не помню ее имени) решили идти за Орбиту, подальше ото всех, чтобы не нашли. Хотели затеряться в тайге. Я на ходу придумала, что натерла подошвы особым составом, он отбивает у собак-ищеек нюх. Мы приставили ее подошвы к моим, передали волшебные свойства.
Поднялись в сопки, собрали сухие ветки, зажгли костерок. Выпили молоко (я обрезала верхушку пирамидки ножницами, вот для чего я их захватила). Постояли, погрелись у огня. В сумерках мы его затоптали, потушили. И направились назад, в город.
Улица шла от сопок сверху вниз. Мы издали увидели наших родителей и заревели в голос.
09.08.2021
Собрались. Я положила в карман короткого пальтеца спички. Взяла молоко. Треугольный пакет, пирамидка. Взяла с собой ножницы. А нож? Не помню. Хлеб? Вероятно. И в чем мы несли молоко, вероятный хлеб? В авоське, скорее всего. Только в нашем словаре не было такого слова, «авоська». Мы говорили «сетка».
Мы поели (подкрепились) после школы, переоделись, собрались и двинулись в путь.
По воскресеньям я ходила с родителями в сопки гулять, и летом, и зимой (на санках, я с папой, летим прямо на сосну, ааааа!). Добирались до Орбиты, здоровенной тарелки-антенны, папа говорил, что она передает телесигнал. Я знала, что без такой антенны, телевизор мертв, так было в Забайкальске, бессмысленная штука в углу.
Мы с подельницей (не помню ее имени) решили идти за Орбиту, подальше ото всех, чтобы не нашли. Хотели затеряться в тайге. Я на ходу придумала, что натерла подошвы особым составом, он отбивает у собак-ищеек нюх. Мы приставили ее подошвы к моим, передали волшебные свойства.
Поднялись в сопки, собрали сухие ветки, зажгли костерок. Выпили молоко (я обрезала верхушку пирамидки ножницами, вот для чего я их захватила). Постояли, погрелись у огня. В сумерках мы его затоптали, потушили. И направились назад, в город.
Улица шла от сопок сверху вниз. Мы издали увидели наших родителей и заревели в голос.
09.08.2021
***
Чита. Год, наверно, 1973. Мороз 36 градусов (почему-то запомнилось именно это число). Воздух сгущается, и дома на другой стороне улицы уже едва различимы. Как бы то ни было, на улицу я собираюсь (в школу, во двор, за хлебом). Одежды много. Две пары рейтуз (плюс колготки), толстые шерстяные носки, валенки, шубейка (затянута папиным армейским ремнём), цигейковая шапка, двойные рукавицы. Чисто космонавт готовится к выходу в открытый космос. Так улица и кажется – открытым космосом. Но не в морозы, как ни странно, а в оттепель. Ретро, как говорится, спективно. По контрасту. Когда выходишь и можешь дышать, можешь расстегнуть верхнюю пуговицу, можешь не бежать, а медлить. Можешь прямо здесь, под открытым небом, жить. Прозрачный воздух, влажный ветер, снежная баба осела. Ты дома, скафандр не нужен, дыши.
15.02.2016
15.02.2016
Я училась в первую смену, возвращалась домой, отворяла дверь, разогревала обед, негромко включала приемник, станцию «Маяк». Я не вслушивалась. Обедала, мыла за собой посуду, делала уроки. Радио бормотало, мужские, женские, детские голоса изо дня в день пели одни и те же песни. Синий лён. Эх, дороги. Ночь коротка. Вологда. Не плачь, девчонка. Мне нужен был человеческий голос. Чье-то необременительное, незримое присутствие. Не требующее внимания. Ничего не требующего. Кроме меня, как выяснилось. Я помню их прочно. Шагаю ранним утром по Москве и напеваю. Ночь коротка. Утро красит нежным светом. Не плачь. Они поселились во мне, прижились, стали мной.
Я училась в первую смену, возвращалась домой, отворяла дверь, разогревала обед, негромко включала приемник, станцию «Маяк». Я не вслушивалась. Обедала, мыла за собой посуду, делала уроки. Радио бормотало, мужские, женские, детские голоса изо дня в день пели одни и те же песни. Синий лён. Эх, дороги. Ночь коротка. Вологда. Не плачь, девчонка. Мне нужен был человеческий голос. Чье-то необременительное, незримое присутствие. Не требующее внимания. Ничего не требующего. Кроме меня, как выяснилось. Я помню их прочно. Шагаю ранним утром по Москве и напеваю. Ночь коротка. Утро красит нежным светом. Не плачь. Они поселились во мне, прижились, стали мной.
***
Родители собирались гулять и вдруг поссорились. Осень или весна. Год, наверное, шестьдесят девятый. Чита до Забайкальска (из него мы вновь вернулись в Читу, в другой район).
Собирались на прогулку в глубоком молчании. Мне запомнилась розовая пыльца маминой пудры на темной полировке стола. Запомнилась как символ их ссоры.
День был пасмурный, серый, ветреный. Шли и молчали. Вдруг низко пролетел голубь и едва не задел мамину шляпку. Может быть, и задел. Мама ахнула. Папа что-то ей сказал, она ответила.
*
Иногда они брали меня с собой в кино. Кинотеатр Родина с белыми классическими колоннами. Темный полумрак зала. Черно-белые громадные тени на большом экране вдали, иногда говорящие, иногда немые (точно помню бродяжку Чаплина). Я выбиралась в коридор. Ходила. Глазела в окно.
*
В школе умерла одна девочка, не из нашего класса, незнакомая. Я понимала, что смерть это когда тебя нет нигде. Примеривала на себя. Невозможная вещь. Я загадала (попросила кого-то): пусть я не умру, хотя бы до восьмого класса. Меня от него отделяли пять лет. Вечность.
10.08.2021
Собирались на прогулку в глубоком молчании. Мне запомнилась розовая пыльца маминой пудры на темной полировке стола. Запомнилась как символ их ссоры.
День был пасмурный, серый, ветреный. Шли и молчали. Вдруг низко пролетел голубь и едва не задел мамину шляпку. Может быть, и задел. Мама ахнула. Папа что-то ей сказал, она ответила.
*
Иногда они брали меня с собой в кино. Кинотеатр Родина с белыми классическими колоннами. Темный полумрак зала. Черно-белые громадные тени на большом экране вдали, иногда говорящие, иногда немые (точно помню бродяжку Чаплина). Я выбиралась в коридор. Ходила. Глазела в окно.
*
В школе умерла одна девочка, не из нашего класса, незнакомая. Я понимала, что смерть это когда тебя нет нигде. Примеривала на себя. Невозможная вещь. Я загадала (попросила кого-то): пусть я не умру, хотя бы до восьмого класса. Меня от него отделяли пять лет. Вечность.
10.08.2021
В Читинской школе
Усть-Каменогорск; вступила в комсомол
Школы
За первый учебный год – три школы.
На станции Забайкальская (на границе с Китаем, там у поездов меняли колесные пары (так это называется?), - ширина колеи у нас была другой (или у них была другой). Папа рассказывал (он служил в военной комендатуре), что китайцы ходили в ресторан на станции и заказывали рис и булочки, вроде бы так. Папа покупал в ресторане «Пекинского» поезда московские конфеты и, кажется, мандарины.
В Забайкальске я проучилась полгода (1970, сентябрь-декабрь). Запомнилась длинная крутая улица, обледенелая, я качусь-лечу по ней вниз - на портфеле (на ранце, наверное).
Одна из родительниц жалуется маме, что я дерусь с ее сыном. Не помню.
Через полгода папу перевели из Забайкальска в Читу, и я пошла в новую школу.
Квартиру поначалу не дали, и мы жили, даже не помню, где. Чита первая или Чита вторая, одно из двух. В новой школе мне пришлось тяжело, они уже изучали уравнения с одним переменным. Я мучилась и никак не могла понять, что эта за штука. В конце концов как-то поняла. Во всяком случае, в следующей школе, бывшей царской (так говорили) гимназии (средняя школа № 4 в самом центре города) я училась легко, а школа была будь здоров, какая крутая.
Паркет на полу, высоченные потолки, громадные окна, занятия ритмикой, китайский язык со второго класса (помню одну фразу: е ши съешен – я есть ученик, - вроде бы), бассейн (в котором я тонула). До сих пор помню имя мальчика, который мне нравился (Миша Морозов), и имя мальчика, которому нравилась я (Игорь Забродин; дарил мне шоколадки и вообще проявлял внимание и заботу), помню имя подружки (Оксана Боковикова; да я и имя детсадовской подружки помню – Лена Патрушева; где вы, люди? как вы?). В пятом классе должен был начаться второй язык, английский, но в пятом классе я уже была в другой школе, в другом городе.
Папу перевели из солнечного Забайкалья в солнечную Киргизию. Поселили в общежитии на ГЭС-5, в пригороде Фрунзе, тамошние школьники в сентябре (да и в октябре, кажется) работали на уборке (виноград, а то и хлопок), и мама решила отправить меня к бабушке в город Муром. Там я и проучилась в пятом классе, уже без китайского, бассейна, ритмики и спортзала.
Школа старенькая, в ней и моя бабушка училась, и моя мама, и мамин брат. Некоторые учителя маму помнила и звали меня ее девичьей фамилией: Молотихина. Физкультурой ходили заниматься в парк у завода им. Дзержинского, турникеты, беговая дорожка. У меня были слабые руки, я не могла взобраться по шесту (вместо каната висел), я упражнялась беспрерывно, пока не смогла (вот почему меня удивил слаборукий персонаж Варламова; делов-то, - я подумала, - а тут – целое дело). Выучилась колоть дрова, пилить, выращивать бледные ростки из семян (учительницу ботаники и географии звали Ольга Николаевна Зворыкина, дальняя родственника изобретателя телевидения, тоже уроженца Мурома), кроме того, я научилась скатываться на стареньких лыжах с горки на заледенелый пруд (тоже старалась упорно, а то всё падала, не могла удержаться).
На станции Забайкальская (на границе с Китаем, там у поездов меняли колесные пары (так это называется?), - ширина колеи у нас была другой (или у них была другой). Папа рассказывал (он служил в военной комендатуре), что китайцы ходили в ресторан на станции и заказывали рис и булочки, вроде бы так. Папа покупал в ресторане «Пекинского» поезда московские конфеты и, кажется, мандарины.
В Забайкальске я проучилась полгода (1970, сентябрь-декабрь). Запомнилась длинная крутая улица, обледенелая, я качусь-лечу по ней вниз - на портфеле (на ранце, наверное).
Одна из родительниц жалуется маме, что я дерусь с ее сыном. Не помню.
Через полгода папу перевели из Забайкальска в Читу, и я пошла в новую школу.
Квартиру поначалу не дали, и мы жили, даже не помню, где. Чита первая или Чита вторая, одно из двух. В новой школе мне пришлось тяжело, они уже изучали уравнения с одним переменным. Я мучилась и никак не могла понять, что эта за штука. В конце концов как-то поняла. Во всяком случае, в следующей школе, бывшей царской (так говорили) гимназии (средняя школа № 4 в самом центре города) я училась легко, а школа была будь здоров, какая крутая.
Паркет на полу, высоченные потолки, громадные окна, занятия ритмикой, китайский язык со второго класса (помню одну фразу: е ши съешен – я есть ученик, - вроде бы), бассейн (в котором я тонула). До сих пор помню имя мальчика, который мне нравился (Миша Морозов), и имя мальчика, которому нравилась я (Игорь Забродин; дарил мне шоколадки и вообще проявлял внимание и заботу), помню имя подружки (Оксана Боковикова; да я и имя детсадовской подружки помню – Лена Патрушева; где вы, люди? как вы?). В пятом классе должен был начаться второй язык, английский, но в пятом классе я уже была в другой школе, в другом городе.
Папу перевели из солнечного Забайкалья в солнечную Киргизию. Поселили в общежитии на ГЭС-5, в пригороде Фрунзе, тамошние школьники в сентябре (да и в октябре, кажется) работали на уборке (виноград, а то и хлопок), и мама решила отправить меня к бабушке в город Муром. Там я и проучилась в пятом классе, уже без китайского, бассейна, ритмики и спортзала.
Школа старенькая, в ней и моя бабушка училась, и моя мама, и мамин брат. Некоторые учителя маму помнила и звали меня ее девичьей фамилией: Молотихина. Физкультурой ходили заниматься в парк у завода им. Дзержинского, турникеты, беговая дорожка. У меня были слабые руки, я не могла взобраться по шесту (вместо каната висел), я упражнялась беспрерывно, пока не смогла (вот почему меня удивил слаборукий персонаж Варламова; делов-то, - я подумала, - а тут – целое дело). Выучилась колоть дрова, пилить, выращивать бледные ростки из семян (учительницу ботаники и географии звали Ольга Николаевна Зворыкина, дальняя родственника изобретателя телевидения, тоже уроженца Мурома), кроме того, я научилась скатываться на стареньких лыжах с горки на заледенелый пруд (тоже старалась упорно, а то всё падала, не могла удержаться).
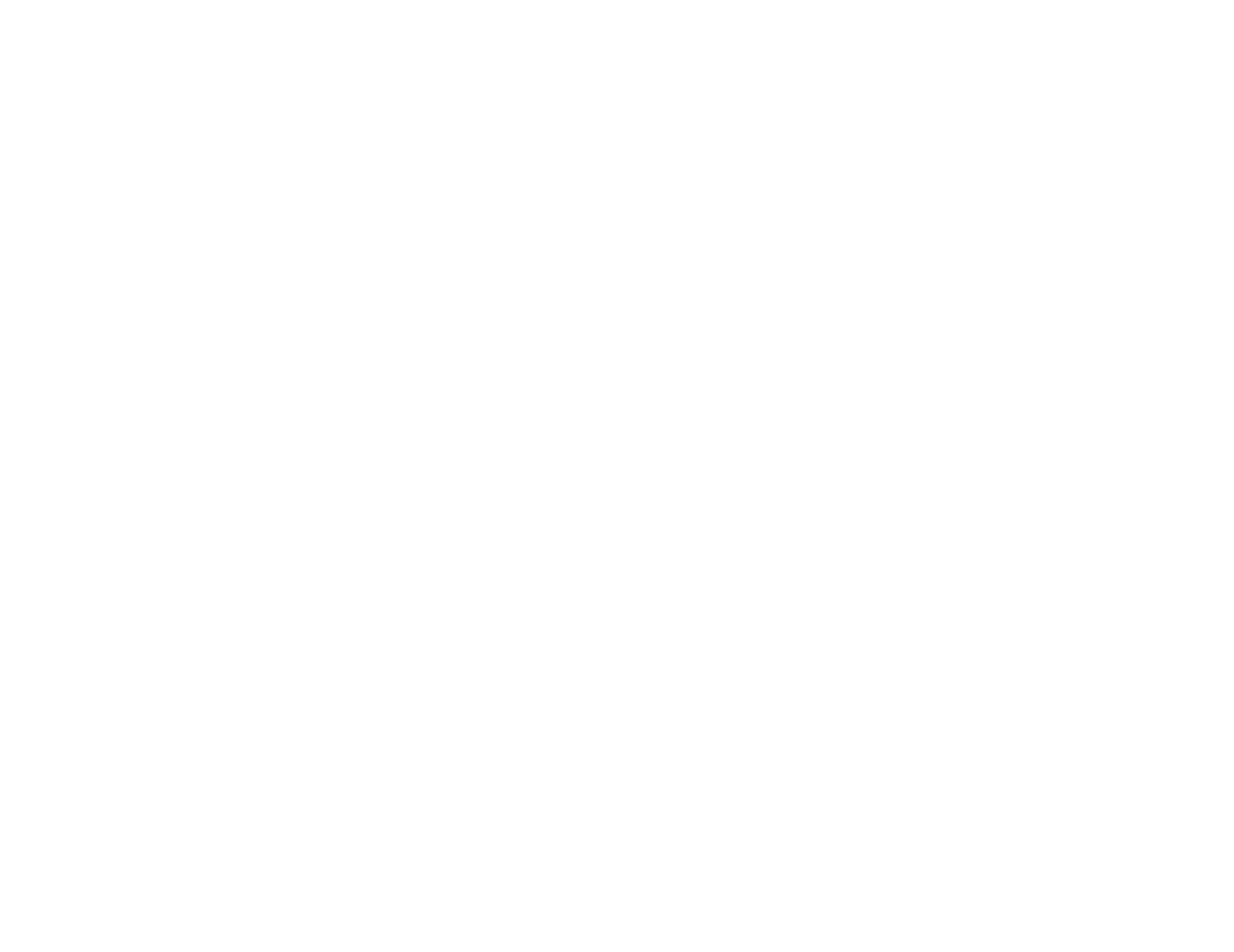
Усть-Каменогорск. Мой класс. Я третья слева. Год, вроде бы, 1978.
На другой год папе дали что-то вроде квартиры в самом Фрунзе, и родители меня забрали. Так что новый шестой класс я встретила в новой школе. Там я выучилась материться.
Квартира у нас была изумительная – на территории гаражей штаба гражданской обороны (тогдашняя гражданская оборона, ГО, это что-то вроде нынешней МЧС; к примеру, папа с солдатами ездил откапывать село после оползня). Гаражи были в отдельном здании, а наша комната – в отдельном, окнами на школьный двор. Умывальник в коридоре, удобства во дворе (на гвозде в деревянном сортире папа не раз находил кобуру с пистолетом, ее оставлял охранник; кобуру папа возвращал владельцу). Железные ворота с красными звездами. Шпалеры винограда. Черешня. Яблони. Один из охранников, узбек, научил маму варить плов, мы его ели ночью за столом во дворе, под звездами, кидали собакам кости.
В самую жару я подобрала на улице задыхающегося птенца, думала его отпоить, но птенец умер; нашу дворовую кошку кто-то убил, остались котята, их мне удалось выкормить, чуть подросшие они взбирались на кудрявую спину покорной приблудной собачонки. Я приводила из школы двух своих приятелей (Пашу и Колю), Коля поругался с охранников (не хотел пропускать). Охранник жаловался моим родителям, что я вожу домой охламонов; я делила с охламонами обед (суп и компот), о чем-то мы болтали. Рядом с гаражами жили люди в самостроенных халупах, - тесно, грязно. Это была моя самая безалаберная школа.
В 1976 году папу перевели в Усть-Каменогорск (Казахстан), там я сменила еще одну школу (жили в общежитии, в комнате со множеством коек), и наконец во вполне приличной школе № 25 я доучилась до 10 класса и получила аттестат. Помню сладкий воздух от химических выбросов, солнце, серый налет на снеге. Мальчик, с которым я танцую медленный танец на школьной дискотеке, а вдруг говорит мне тихо: жидовочка.
С подружкой из Усть-Каменогорска я переписываюсь, маленько знаю местные новости.
Как же всё это далеко.
01.09.2017
Квартира у нас была изумительная – на территории гаражей штаба гражданской обороны (тогдашняя гражданская оборона, ГО, это что-то вроде нынешней МЧС; к примеру, папа с солдатами ездил откапывать село после оползня). Гаражи были в отдельном здании, а наша комната – в отдельном, окнами на школьный двор. Умывальник в коридоре, удобства во дворе (на гвозде в деревянном сортире папа не раз находил кобуру с пистолетом, ее оставлял охранник; кобуру папа возвращал владельцу). Железные ворота с красными звездами. Шпалеры винограда. Черешня. Яблони. Один из охранников, узбек, научил маму варить плов, мы его ели ночью за столом во дворе, под звездами, кидали собакам кости.
В самую жару я подобрала на улице задыхающегося птенца, думала его отпоить, но птенец умер; нашу дворовую кошку кто-то убил, остались котята, их мне удалось выкормить, чуть подросшие они взбирались на кудрявую спину покорной приблудной собачонки. Я приводила из школы двух своих приятелей (Пашу и Колю), Коля поругался с охранников (не хотел пропускать). Охранник жаловался моим родителям, что я вожу домой охламонов; я делила с охламонами обед (суп и компот), о чем-то мы болтали. Рядом с гаражами жили люди в самостроенных халупах, - тесно, грязно. Это была моя самая безалаберная школа.
В 1976 году папу перевели в Усть-Каменогорск (Казахстан), там я сменила еще одну школу (жили в общежитии, в комнате со множеством коек), и наконец во вполне приличной школе № 25 я доучилась до 10 класса и получила аттестат. Помню сладкий воздух от химических выбросов, солнце, серый налет на снеге. Мальчик, с которым я танцую медленный танец на школьной дискотеке, а вдруг говорит мне тихо: жидовочка.
С подружкой из Усть-Каменогорска я переписываюсь, маленько знаю местные новости.
Как же всё это далеко.
01.09.2017
“
Телевизор в углу квадратной комнаты, зеленые обои с морозным рисунком. Треть соседней комнаты занимает печь. На раскаленном шестке поет чайник, окна плачут, цветет декабрист, я сижу за столом; клеенка протерта, на буфете тикают часы, я решаю задачу. Если раздвинуть занавески в дверном проеме, увидишь телевизор в зеленой комнате. Что-то вроде театра, - занавес раздвигается, в коробке двигаются фигурки. В эту зиму мы впервые смотрели Иронию судьбы. Черно-белый телевизор, антенна на крыше. Задача не получается. Приходит соседка, грузно опускается на диван у стены. Спрашивает условие задачи. Бабушка заваривает чай. Думаем все над задачей. Ничего не надумываем. Пьем чай.
“
Телевизор в углу квадратной комнаты, зеленые обои с морозным рисунком. Треть соседней комнаты занимает печь. На раскаленном шестке поет чайник, окна плачут, цветет декабрист, я сижу за столом; клеенка протерта, на буфете тикают часы, я решаю задачу. Если раздвинуть занавески в дверном проеме, увидишь телевизор в зеленой комнате. Что-то вроде театра, - занавес раздвигается, в коробке двигаются фигурки. В эту зиму мы впервые смотрели Иронию судьбы. Черно-белый телевизор, антенна на крыше. Задача не получается. Приходит соседка, грузно опускается на диван у стены. Спрашивает условие задачи. Бабушка заваривает чай. Думаем все над задачей. Ничего не надумываем. Пьем чай.