Остановленное время
Воспоминания Елены Долгопят о юности
(дневниковые записи, заметки, эссе)
(дневниковые записи, заметки, эссе)
Остановленное время
Воспоминания Елены Долгопят о юности
(дневниковые записи, заметки, эссе)
(дневниковые записи, заметки, эссе)
Остановленное время
Несколько раз. Я не знаю отчего. Несколько раз я спускалась в метро, садилась в вагон и ездила по кольцу. Два круга, три, четыре. Пока не надоедало. Я жила в лучшем городе мира, свободно, без надзора и забот, в желанной дали от родительского дома (мое время отставало от их на три с половиной часа). Моя восемнадцатилетняя голова была легка, если не бездумна. Мне доставало денег, я легко сходилась с людьми, никто меня не обижал, и я никого не обижала. Зачем, для чего мне нужны были эти кружения?
Подземное царство, город мертвых. Нет, я так не думала. Я не помню, чтобы я что-либо думала тогда.
Садилась в вагон.
Двери закрываются. Следующая станция. Усталые, как правило, усталые, лица. Черные зеркала окон. Вспышки света за ними. Блики. Отсветы. Отражения. Гул. Станция. Двери закрываются.
Мне хватало свободного времени, и я проводила его так бессмысленно, так странно.
Что-то хочется придумать себе в оправдание. Например: я наблюдала людей. Не знаю. Не уверена. Жаль, что я ничего не записывала тогда. Я бы прочла сейчас, хотя бы и собственную ложь.
24.09.2017
Подземное царство, город мертвых. Нет, я так не думала. Я не помню, чтобы я что-либо думала тогда.
Садилась в вагон.
Двери закрываются. Следующая станция. Усталые, как правило, усталые, лица. Черные зеркала окон. Вспышки света за ними. Блики. Отсветы. Отражения. Гул. Станция. Двери закрываются.
Мне хватало свободного времени, и я проводила его так бессмысленно, так странно.
Что-то хочется придумать себе в оправдание. Например: я наблюдала людей. Не знаю. Не уверена. Жаль, что я ничего не записывала тогда. Я бы прочла сейчас, хотя бы и собственную ложь.
24.09.2017
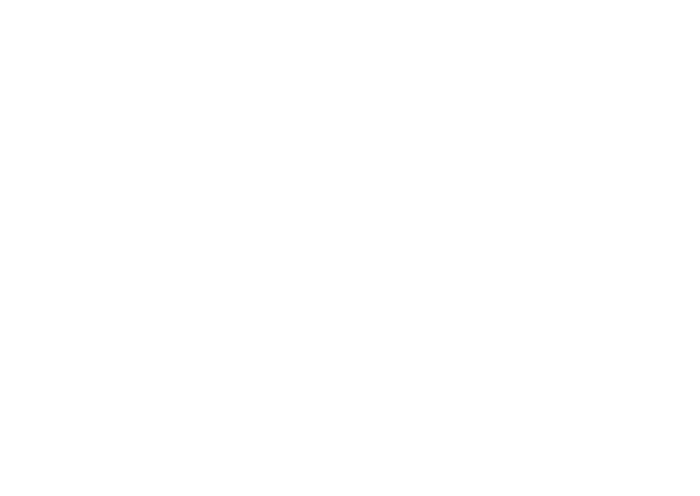
В МИИТе
Пустяки
Путешествие от метро Проспект Мира по Проспекту Мира до Трифоновской улицы, по Трифоновской улице (долгой, с громадной Армянской церковью, - красная скала, гора) до улицы Образцова, до МИИТа, по улице Образцова... Вспомнилась какая-то ерунда. Пропавшая из кармана десятка (четверть стипендии.) И тоже был ветер, но без дождя, пыльный. Что-то мы хотели посмотреть в ДК МИИТа. Что? Здесь мои семнадцать лет. Где-то тут недалеко пельменная. Да, холодная осень, в луже отражается электрический свет. В луже радужная пленка. Все какая-то ерунда, незначительное всплывает, даже стыдно.
Мы шли, да, в бассейн, через трамвайные пути, и я разглядывала кожаную куртку на сокурснице. Что? Почему я это помню? Тридцать лет назад, даже больше. Все сохранилось, все изменилось, все обветшало, все обновилось. Музей в кирпичном доме. Тут были когда-то гаражи. И меня принесло апрельским ледяным ветром. Что я смотрю здесь? Мне не интересно. Я хочу другой музей, чтобы фотографические карточки из моей давно прошедшей здесь жизни. Холодный серый день, мокрый... и вот, в бывшем гараже музей, и ты входишь и видишь. Блеклые фотки. Тех улиц, лиц, того света. Вот что такое тот свет, да, это свет прошлого, это тень света, который был, который ты видела, который ты забыла.
02.05.2017
Мы шли, да, в бассейн, через трамвайные пути, и я разглядывала кожаную куртку на сокурснице. Что? Почему я это помню? Тридцать лет назад, даже больше. Все сохранилось, все изменилось, все обветшало, все обновилось. Музей в кирпичном доме. Тут были когда-то гаражи. И меня принесло апрельским ледяным ветром. Что я смотрю здесь? Мне не интересно. Я хочу другой музей, чтобы фотографические карточки из моей давно прошедшей здесь жизни. Холодный серый день, мокрый... и вот, в бывшем гараже музей, и ты входишь и видишь. Блеклые фотки. Тех улиц, лиц, того света. Вот что такое тот свет, да, это свет прошлого, это тень света, который был, который ты видела, который ты забыла.
02.05.2017
В семнадцать лет я зажила самостоятельной жизнью далеко от родителей (они в Усть-Каменогорске, я в Москве, на первом курсе МИИТа). Такого шоколадного изобилия, как в Москве, ни в Усть-Каменогорске, ни в Муроме (моя родина), тогда, конечно, не было.
У меня в кармане вечно хрустела серебряная шоколадная фольга.
Я покупала пористую «Славу», брала «Гвардейский», «Особый», «Вдохновение». К зиме мои щеки округлились. Я пахла шоколадом.
Я была вкусной. Вскоре моя страсть улеглась. Я похудела, побледнела, выучилась курить и полюбила кофе.
(Как же давно всё это было.)
У меня в кармане вечно хрустела серебряная шоколадная фольга.
Я покупала пористую «Славу», брала «Гвардейский», «Особый», «Вдохновение». К зиме мои щеки округлились. Я пахла шоколадом.
Я была вкусной. Вскоре моя страсть улеглась. Я похудела, побледнела, выучилась курить и полюбила кофе.
(Как же давно всё это было.)
В семнадцать лет я зажила самостоятельной жизнью далеко от родителей (они в Усть-Каменогорске, я в Москве, на первом курсе МИИТа). Такого шоколадного изобилия, как в Москве, ни в Усть-Каменогорске, ни в Муроме (моя родина), тогда, конечно, не было. У меня в кармане вечно хрустела серебряная шоколадная фольга. Я покупала пористую «Славу», брала «Гвардейский», «Особый», «Вдохновение». К зиме мои щеки округлились. Я пахла шоколадом. Я была вкусной. Вскоре моя страсть улеглась. Я похудела, побледнела, выучилась курить и полюбила кофе. (Как же давно всё это было.)
День
26 января 2017 года. Я собиралась на праздник «Нового мира», начало в 19.00. Ушла с работы часа в два (глаза уже не различали букв на экране) вместе с Олей и Лешей, они хотели где-нибудь пообедать на ВДНХ, так чтобы недорого и съедобно. С самого утра был мороз (минус 22 в 7 часов, когда я выходила из дома), синее чистое небо; я время от времени прикрывала нос, когда бежала от платформы Северянин до платформы Ростокино (МКЦ) и потом от Ботанического сада (МКЦ) до гостиницы «Турист», до корпуса, который выходит фасадом на улицу Вильгельма Пика.
На другой ее стороне, чуть дальше по ходу стоит ВГИК, который я окончила в 1993 году, и с тех пор, была там считанные разы, однажды по приглашению Натальи Рязанцевой на ее семинаре. Какой-то мой текст ей понравился (кажется, «Гардеробщик»), и она захотела показать меня студентам. Если «Гардеробщик», то год 2005 или, может быть, 2006, не позже. 11 или 12 лет назад.
В этом корпусе «Туриста», с торца (он смотрит на Сельскохозяйственную улицу) находится кафе «Кофе Бин». Я захожу утром, беру эспрессо (135 рублей двойной), сажусь на диван у стены, так чтобы видеть окна и стеклянную дверь, а за ними – заснеженную улицу, перекресток, светофор, его то красный, то зеленый сигнал. Здесь тепло, я не спешу. В кафе, кроме меня, одна посетительница, дама с собачкой, мы встречались здесь несколько дней назад в этот же утренний час (примерно 8.30); собачка – маленькая темно-рыжая такса, мальчик. В прошлый раз дама брала кофе и сэндвич, просила, чтобы был хлеб определенного вида, тот, который нравится ее рыжему. В это утро я застала ее уже за столиком, она что-то смотрела на своем планшете. Рыжая такса тихо подходила ко мне, смотрела снизу вверх.
Когда я училась во ВГИКе, на месте «Кофе Бина» тоже было кафе, не такое уютное (и не такое дорогое), я бывала в нем с моим приятелем-сокурсником, о чем-то мы с ним говорили здесь (не здесь, - за 25 световых лет отсюда), он, мексиканец, на почти правильном и отчетливом русском, и я – на русском едва слышном. Наверное. В те времена мы печатали наши тексты на машинках. Слепые третьи экземпляры. Некоторые сохранились. Жаль, что не сохранились голоса, я бы послушала.
На другой ее стороне, чуть дальше по ходу стоит ВГИК, который я окончила в 1993 году, и с тех пор, была там считанные разы, однажды по приглашению Натальи Рязанцевой на ее семинаре. Какой-то мой текст ей понравился (кажется, «Гардеробщик»), и она захотела показать меня студентам. Если «Гардеробщик», то год 2005 или, может быть, 2006, не позже. 11 или 12 лет назад.
В этом корпусе «Туриста», с торца (он смотрит на Сельскохозяйственную улицу) находится кафе «Кофе Бин». Я захожу утром, беру эспрессо (135 рублей двойной), сажусь на диван у стены, так чтобы видеть окна и стеклянную дверь, а за ними – заснеженную улицу, перекресток, светофор, его то красный, то зеленый сигнал. Здесь тепло, я не спешу. В кафе, кроме меня, одна посетительница, дама с собачкой, мы встречались здесь несколько дней назад в этот же утренний час (примерно 8.30); собачка – маленькая темно-рыжая такса, мальчик. В прошлый раз дама брала кофе и сэндвич, просила, чтобы был хлеб определенного вида, тот, который нравится ее рыжему. В это утро я застала ее уже за столиком, она что-то смотрела на своем планшете. Рыжая такса тихо подходила ко мне, смотрела снизу вверх.
Когда я училась во ВГИКе, на месте «Кофе Бина» тоже было кафе, не такое уютное (и не такое дорогое), я бывала в нем с моим приятелем-сокурсником, о чем-то мы с ним говорили здесь (не здесь, - за 25 световых лет отсюда), он, мексиканец, на почти правильном и отчетливом русском, и я – на русском едва слышном. Наверное. В те времена мы печатали наши тексты на машинках. Слепые третьи экземпляры. Некоторые сохранились. Жаль, что не сохранились голоса, я бы послушала.

Станция Северянин
От кафе шла по Сельскохозяйственной улице, свернула на Совхозный проезд, он выводит на Вэ-Дэ-эН-Ха.
Прямо и направо. Мороз, проезжают снегоочистительные машины. Здания, в основном, одноэтажные. Похоже на маленький американской город из фильма, который никогда не был снят; в этих строениях не живут (за одним исключением, о котором позже), в них конторы, кафе, оптовые магазины, бог знает, что еще. Городок тихий, совершенно не похожий на всю прочую Москву (какую я знаю и какую способна представить).
Иду к замерзшим, заснеженным прудам. Громадное здание на том берегу напоминает пароход. Здание в несколько этажей за высоченной стеной. Я огибаю пруд и иду по дороге вдоль этой стены. Справа – лес (начало – или конец – ботанического сада). За стеной вдруг лает собака. Я смотрю вверх, на окна. Где-то горит свет. Кажется, что пахнет едой. Говорят, здесь живет семейство какого-то богатея. Очень похоже на то. Машины этой дорогой проходят редко-редко, снег чистый, воздух свежий. Тишина.
Громадный, запущенный, полумертвый павильон «Рыбное хозяйство»; стекло и бетон. На подходе к прудам и вокруг них, немало таких забытых, заброшенных зданий, иногда причудливых, с колоннами, арками; археологи будущего их найдут и буду думать, что на этой планете был когда-то другой климат, что на месте пруда темнело (или сияло) море, а за колоннадами прятались от палящего солнца и вели беседы философы.
Дохожу до белого, идущего к этому месту (и представляется движение, ход, приближение и совмещение как финал), музея (бывшая «Мелиорация»), стучу в железные ворота, мне открывают.
В два часа, когда мы с Олей и Лёшей вышли, синее небо замутилось, мороз спал, поднялся ветер. Мы направились в центр ВДНХ нехоженой мной дорогой. Там, где громадные строения, и бык на крыше одного из них.
Полукруглые своды, самолеты на площадке перед стеклянным кубом (точнее, параллелепипедом; длинное слово вполне соответствует зданию). Почти безлюдно, обледенелый асфальт, ветер, гремит из репродукторов музыка (весь немалый путь до центрального входа-выхода эта музыка, от нее хочется укрыться больше, чем от ветра). Женщина зазывает встречных в новое кафе, и Леша с Олей следуют за ней, а я иду дальше. Огибаю громадный каток, посетителей мало, всё кажется не совсем настоящим, декорацией или сном, мороком.
Прямо и направо. Мороз, проезжают снегоочистительные машины. Здания, в основном, одноэтажные. Похоже на маленький американской город из фильма, который никогда не был снят; в этих строениях не живут (за одним исключением, о котором позже), в них конторы, кафе, оптовые магазины, бог знает, что еще. Городок тихий, совершенно не похожий на всю прочую Москву (какую я знаю и какую способна представить).
Иду к замерзшим, заснеженным прудам. Громадное здание на том берегу напоминает пароход. Здание в несколько этажей за высоченной стеной. Я огибаю пруд и иду по дороге вдоль этой стены. Справа – лес (начало – или конец – ботанического сада). За стеной вдруг лает собака. Я смотрю вверх, на окна. Где-то горит свет. Кажется, что пахнет едой. Говорят, здесь живет семейство какого-то богатея. Очень похоже на то. Машины этой дорогой проходят редко-редко, снег чистый, воздух свежий. Тишина.
Громадный, запущенный, полумертвый павильон «Рыбное хозяйство»; стекло и бетон. На подходе к прудам и вокруг них, немало таких забытых, заброшенных зданий, иногда причудливых, с колоннами, арками; археологи будущего их найдут и буду думать, что на этой планете был когда-то другой климат, что на месте пруда темнело (или сияло) море, а за колоннадами прятались от палящего солнца и вели беседы философы.
Дохожу до белого, идущего к этому месту (и представляется движение, ход, приближение и совмещение как финал), музея (бывшая «Мелиорация»), стучу в железные ворота, мне открывают.
В два часа, когда мы с Олей и Лёшей вышли, синее небо замутилось, мороз спал, поднялся ветер. Мы направились в центр ВДНХ нехоженой мной дорогой. Там, где громадные строения, и бык на крыше одного из них.
Полукруглые своды, самолеты на площадке перед стеклянным кубом (точнее, параллелепипедом; длинное слово вполне соответствует зданию). Почти безлюдно, обледенелый асфальт, ветер, гремит из репродукторов музыка (весь немалый путь до центрального входа-выхода эта музыка, от нее хочется укрыться больше, чем от ветра). Женщина зазывает встречных в новое кафе, и Леша с Олей следуют за ней, а я иду дальше. Огибаю громадный каток, посетителей мало, всё кажется не совсем настоящим, декорацией или сном, мороком.
В декабре 1981-го мне исполнилось 18 лет, не помню отчего вдруг, но мы поехали из общежития на ВДНХ, запомнился тоже холод и ветер, открытое пространство и совершенное почти безлюдье; каменная пустота магазина в каком-то павильоне. Я решила взять шампанское, продавщица в белом мятом халате спросила паспорт, который я с гордостью ей и предъявила.
В декабре 1981-го мне исполнилось 18 лет, не помню отчего вдруг, но мы поехали из общежития на ВДНХ, запомнился тоже холод и ветер, открытое пространство и совершенное почти безлюдье; каменная пустота магазина в каком-то павильоне. Я решила взять шампанское, продавщица в белом мятом халате спросила паспорт, который я с гордостью ей и предъявила.
Выхожу к трамвайным путям, здесь уже город, народ, светофоры-переходы, в грязь раскисший снег. До метро еще минут десять.
Я поехала до Лубянки, прошла людной Никольской до ГУМа (по дороге спустилась в подвальную аптеку, взяла витаон). В ГУМ вошла, было еще светло. Народу немного, прохладно, музыка, не такая громкая, всегда советская, неумолкаемая. Я поела в «итальянском» кафе. На стенах портреты гостей Фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Пока ела, пока сидела без всяких мыслей плечом к стене, небо над стеклянным куполом ГУМа потемнело, зажглись под прозрачным сводом электрические огоньки, и мне захотелось домой.
И на Никольской уже была ночь, и на Рождественке.
Я свернула на Кузнецкий, постояла на ветру и зашла в маленькую Лавку писателей. Тепло, светло, тесно. Я осторожно походила между стеллажами, потрогала корешки книг. Со второго этажа, с антресолей, доносился мужской голос, он бормотал стихи, как молитву, я не могла разобрать ни слова, как не разбираешь слова в песне, когда не знаешь языка, да и не нужно его знать, для песни – не нужно, и для стихов не нужно, они не затем. Впрочем, я заговариваюсь.
- Поднимитесь, - тихо предложила мне женщина в черном платье (видимо, продавщица, но это слово, продавщица, совершенней к ней не шло).
Я покачала отрицательно головой, постояла, послушала, вышла и направилась в метро. Поехала не в редакцию, а на вокзал, невыносимым показалось оставаться в городе, голова разболелась. Из поезда позвонила Саше и предупредила, что не приеду к ним ночевать. Народу в вагоне было полно, многие сидели, закрыв глаза.
29.01.2017
Я поехала до Лубянки, прошла людной Никольской до ГУМа (по дороге спустилась в подвальную аптеку, взяла витаон). В ГУМ вошла, было еще светло. Народу немного, прохладно, музыка, не такая громкая, всегда советская, неумолкаемая. Я поела в «итальянском» кафе. На стенах портреты гостей Фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Пока ела, пока сидела без всяких мыслей плечом к стене, небо над стеклянным куполом ГУМа потемнело, зажглись под прозрачным сводом электрические огоньки, и мне захотелось домой.
И на Никольской уже была ночь, и на Рождественке.
Я свернула на Кузнецкий, постояла на ветру и зашла в маленькую Лавку писателей. Тепло, светло, тесно. Я осторожно походила между стеллажами, потрогала корешки книг. Со второго этажа, с антресолей, доносился мужской голос, он бормотал стихи, как молитву, я не могла разобрать ни слова, как не разбираешь слова в песне, когда не знаешь языка, да и не нужно его знать, для песни – не нужно, и для стихов не нужно, они не затем. Впрочем, я заговариваюсь.
- Поднимитесь, - тихо предложила мне женщина в черном платье (видимо, продавщица, но это слово, продавщица, совершенней к ней не шло).
Я покачала отрицательно головой, постояла, послушала, вышла и направилась в метро. Поехала не в редакцию, а на вокзал, невыносимым показалось оставаться в городе, голова разболелась. Из поезда позвонила Саше и предупредила, что не приеду к ним ночевать. Народу в вагоне было полно, многие сидели, закрыв глаза.
29.01.2017
Время
Некоторое событие настигает тебя, в какую бы сторону ты не бежал, с какой бы скоростью не рвался. Это похоже на сон, но это и есть реальность. Это и есть самая большая правда сна.
И как бы медленно не продвигалась очередь, и даже если бы она не продвигалась вовсе, и даже если бы ты встала и ушла из нее, ты всё-таки окажешься в этом кабинете в то самое время, которое уже помечено чернильной точкой. Тем время и отличается, что от него не уйдешь. Каждая точка времени тебя настигает. Время – убийца из сна. У времени молекулярное строение – твои молекулы в его составе - в пространстве четырех измерений. В нем умещается вся твоя жизнь от зародыша, нет, от двух клеток, - до мертвого тела. Смерти нет, потому что ты –– частица времени, как твоя рука или твоя мысль – часть тебя и часть мира; время бессмертно, каждая его частица - раз и навсегда. Раз и навсегда ты, и каждый человек в этой очереди, и старческая дрожащая рука, берущаяся за ручку двери. И сама дверь. И здание. И воздух внутри и снаружи. И мысли всех. Вот почему иногда можно понять, что думает незнакомец, сидящий рядом в метро: он – это ты. Да, с таким лицом, с таким взглядом. С таким.
Посмотри на себя. Ты никогда не будешь по ту сторону времени, той стороны у времени не бывает, у него нет изнанки, и тебе не дано из него выскользнуть, никогда.
И как бы медленно не продвигалась очередь, и даже если бы она не продвигалась вовсе, и даже если бы ты встала и ушла из нее, ты всё-таки окажешься в этом кабинете в то самое время, которое уже помечено чернильной точкой. Тем время и отличается, что от него не уйдешь. Каждая точка времени тебя настигает. Время – убийца из сна. У времени молекулярное строение – твои молекулы в его составе - в пространстве четырех измерений. В нем умещается вся твоя жизнь от зародыша, нет, от двух клеток, - до мертвого тела. Смерти нет, потому что ты –– частица времени, как твоя рука или твоя мысль – часть тебя и часть мира; время бессмертно, каждая его частица - раз и навсегда. Раз и навсегда ты, и каждый человек в этой очереди, и старческая дрожащая рука, берущаяся за ручку двери. И сама дверь. И здание. И воздух внутри и снаружи. И мысли всех. Вот почему иногда можно понять, что думает незнакомец, сидящий рядом в метро: он – это ты. Да, с таким лицом, с таким взглядом. С таким.
Посмотри на себя. Ты никогда не будешь по ту сторону времени, той стороны у времени не бывает, у него нет изнанки, и тебе не дано из него выскользнуть, никогда.
Дата и место
эссе
эссе
Я работаю в отделе рукописей Музея кино, разбираю архивы, систематизирую, ввожу данные в электронную базу: автор, размеры, место создания, дата, содержание документа. Место создания определяется датой.
Предположим, письмо написано в 1991 году. В городе Москве. В какой стране? В Советском Союзе.
Тот же автор спустя два года пишет из того же города. В какой стране? В России.
Перемен. Мы ждем перемен. – пел Виктор Цой.
Он пел, а мы слушали. Смотрели «Ассу» и слушали.
Не так давно, в 2019 (незадолго до пандемии), «Асса» выходила в повторный прокат. Я побежала смотреть. Кинотеатр «Звезда» рядом с Курским вокзалом, странный длинный зал, не с привычными рядами сидений, а со столами, как в кабаре, можно пить чай или, к примеру, кофе и смотреть на экран. Я чай не пила, я не отрывалась от фильма. Какие люди! Говорухин в роли бандита (цеховик, криминальный авторитет, уточняет Википедия) читает «Евгения Онегина». Гребенщиков за кадром поет: Есть город золотой. Сергей Бугаев (Мальчик Бананан) поет-выговаривает: Вэ Вэ Эс. Военно. Воздушные. Силы. Цой в финале: Перемен! Жаждут наши сердца.
Весь фильм, весь целиком, - песня, блатной романс. Про жажду. Про застоявшийся воздух.
Да, да, да. Я чувствовала то же. Затхлый, застоявшийся воздух. Жесткую предопределенность судьбы. Предсказуемость мира. Скуку. Тоску.
В восемьдесят восьмом году (год выхода на экраны свежеиспеченной «Ассы», март месяц, если верить Википедии), двадцати четырех лет от роду, я спешила на работу, на завод «Мосприбор» и сочиняла на ходу про небо, в которое никак не подняться, натыкаешься на стальные тросы проводов. Что-то вроде. Ранняя весна, сердце жаждало.
Предположим, письмо написано в 1991 году. В городе Москве. В какой стране? В Советском Союзе.
Тот же автор спустя два года пишет из того же города. В какой стране? В России.
Перемен. Мы ждем перемен. – пел Виктор Цой.
Он пел, а мы слушали. Смотрели «Ассу» и слушали.
Не так давно, в 2019 (незадолго до пандемии), «Асса» выходила в повторный прокат. Я побежала смотреть. Кинотеатр «Звезда» рядом с Курским вокзалом, странный длинный зал, не с привычными рядами сидений, а со столами, как в кабаре, можно пить чай или, к примеру, кофе и смотреть на экран. Я чай не пила, я не отрывалась от фильма. Какие люди! Говорухин в роли бандита (цеховик, криминальный авторитет, уточняет Википедия) читает «Евгения Онегина». Гребенщиков за кадром поет: Есть город золотой. Сергей Бугаев (Мальчик Бананан) поет-выговаривает: Вэ Вэ Эс. Военно. Воздушные. Силы. Цой в финале: Перемен! Жаждут наши сердца.
Весь фильм, весь целиком, - песня, блатной романс. Про жажду. Про застоявшийся воздух.
Да, да, да. Я чувствовала то же. Затхлый, застоявшийся воздух. Жесткую предопределенность судьбы. Предсказуемость мира. Скуку. Тоску.
В восемьдесят восьмом году (год выхода на экраны свежеиспеченной «Ассы», март месяц, если верить Википедии), двадцати четырех лет от роду, я спешила на работу, на завод «Мосприбор» и сочиняла на ходу про небо, в которое никак не подняться, натыкаешься на стальные тросы проводов. Что-то вроде. Ранняя весна, сердце жаждало.
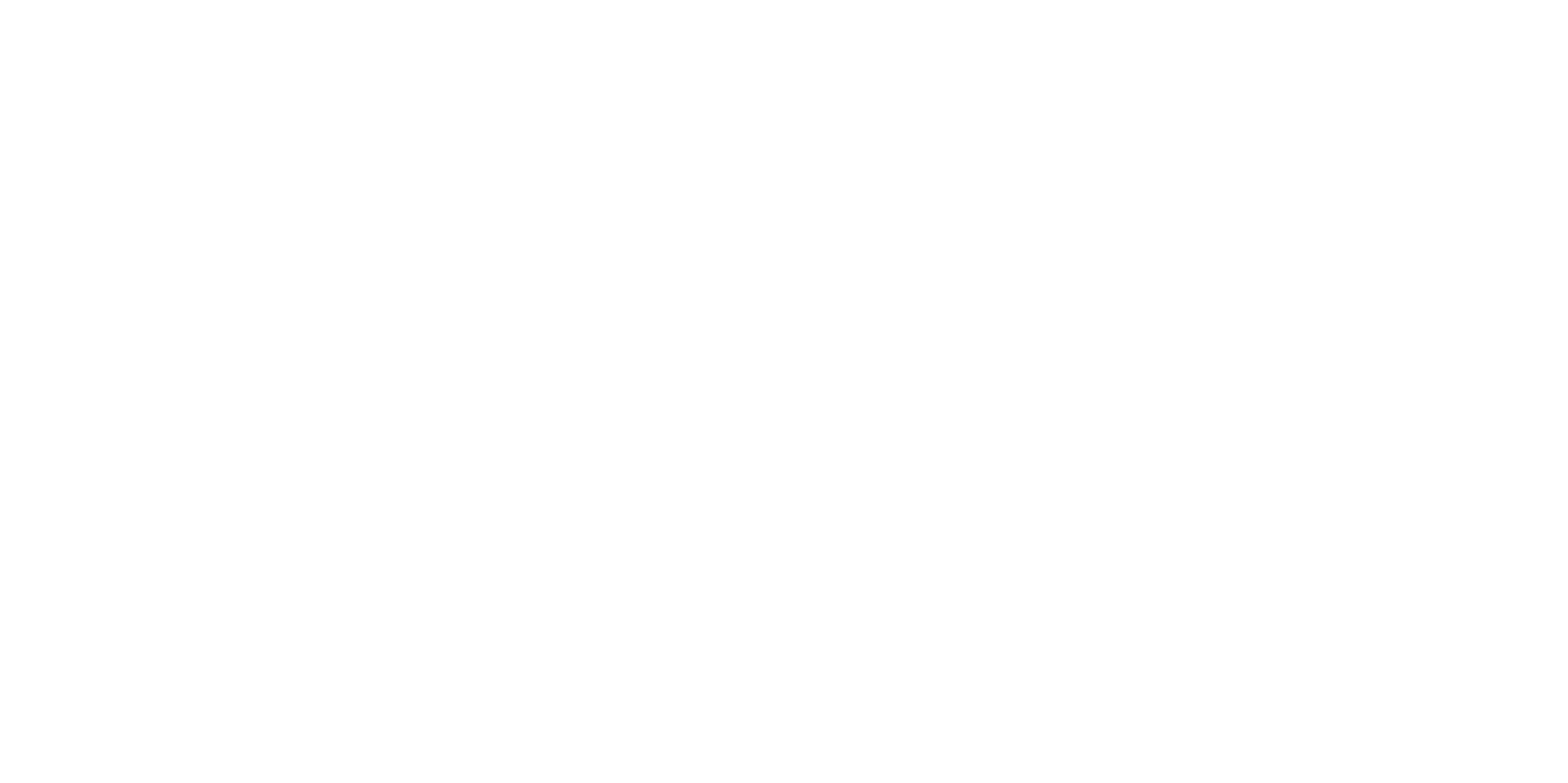
Кадр из фильма "Асса"
Летом я пыталась пробиться во ВГИК (подняться в небо), на режиссера, к Хуциеву. Получила за литературную работу двойку, познакомилась с таким же неудачником, звали его Андрей. В отличие от меня, Андрей надежды не терял, привел меня в секцию кинолюбителей при клубе на Павелецкой (клуб обувной фабрики «Буревестник»).
Подвал, кафельные стены, небольшой экран, проектор, кинокамера. Руководитель Яков Сморгонский, лет тридцать пять ему было. Как-то раз он подобрал и принес на занятие грамоту с большим портретом лобастого Ленина. Грамота подмокла в раскисшем снегу, чернила расплывались. Грамота плакала чернильными слезами, можно и так сказать. И вот эта выброшенная кем-то грамота читалась нами как знак, как символ времени. Она пахла пьяным весенним воздухом.
Во ВГИК я поступила на следующий год, на сценарный. Во многом (если не во всем), благодаря Якову: он толковал мои тексты, иногда хвалил, требовал новых. Мне до сих пор кажется, он единственный в точности понимал, что я пишу, о чем. До сих пор помню начало одного из тогдашних моих рассказов: Лившиц жил в метро. Жил и наружу не выходил. А мне хотелось наружу, на белый свет.
Андрей подрабатывал в школе, вел театральную студию, мы ездили к нему снимать фильм. Роли играли его студийные дети. Камеру взяли в клубе. Не помню, о чем был фильм, не помню, видела ли его. Дети любили Андрея, переживали, что он скоро уезжает, далеко, в Америку. Андрей утешал: это раньше Америка была далеко, а сейчас другое время, будем видеться, буду приезжать. Не знаю, приезжал ли. Если и приезжал, то, конечно, в другую страну. Так всегда, в любые времена.
В девяносто первом август стоял тихий, прозрачный. Девятнадцатого объявили чрезвычайное положение. В магазине на станции Зеленоградская я купила себе на зиму финский пуховик. Да.
До ВГИКа я три года проработала по специальности (программирование) сначала на военном объекте на границе Московской и Калужской областей, затем на «Мосприборе». Головное предприятие было в Ярославле, так что я получала и зарплату, и командировочные, плюс какие-то добавки за секретность. Жила, не стесняясь в средствах, и сумела накопить за три года две тысячи рублей. Очень, очень приличные деньги для тех лет. В августе девяносто первого они изрядно потеряли в весе, но пуховик я купить еще могла.
Подвал, кафельные стены, небольшой экран, проектор, кинокамера. Руководитель Яков Сморгонский, лет тридцать пять ему было. Как-то раз он подобрал и принес на занятие грамоту с большим портретом лобастого Ленина. Грамота подмокла в раскисшем снегу, чернила расплывались. Грамота плакала чернильными слезами, можно и так сказать. И вот эта выброшенная кем-то грамота читалась нами как знак, как символ времени. Она пахла пьяным весенним воздухом.
Во ВГИК я поступила на следующий год, на сценарный. Во многом (если не во всем), благодаря Якову: он толковал мои тексты, иногда хвалил, требовал новых. Мне до сих пор кажется, он единственный в точности понимал, что я пишу, о чем. До сих пор помню начало одного из тогдашних моих рассказов: Лившиц жил в метро. Жил и наружу не выходил. А мне хотелось наружу, на белый свет.
Андрей подрабатывал в школе, вел театральную студию, мы ездили к нему снимать фильм. Роли играли его студийные дети. Камеру взяли в клубе. Не помню, о чем был фильм, не помню, видела ли его. Дети любили Андрея, переживали, что он скоро уезжает, далеко, в Америку. Андрей утешал: это раньше Америка была далеко, а сейчас другое время, будем видеться, буду приезжать. Не знаю, приезжал ли. Если и приезжал, то, конечно, в другую страну. Так всегда, в любые времена.
В девяносто первом август стоял тихий, прозрачный. Девятнадцатого объявили чрезвычайное положение. В магазине на станции Зеленоградская я купила себе на зиму финский пуховик. Да.
До ВГИКа я три года проработала по специальности (программирование) сначала на военном объекте на границе Московской и Калужской областей, затем на «Мосприборе». Головное предприятие было в Ярославле, так что я получала и зарплату, и командировочные, плюс какие-то добавки за секретность. Жила, не стесняясь в средствах, и сумела накопить за три года две тысячи рублей. Очень, очень приличные деньги для тех лет. В августе девяносто первого они изрядно потеряли в весе, но пуховик я купить еще могла.
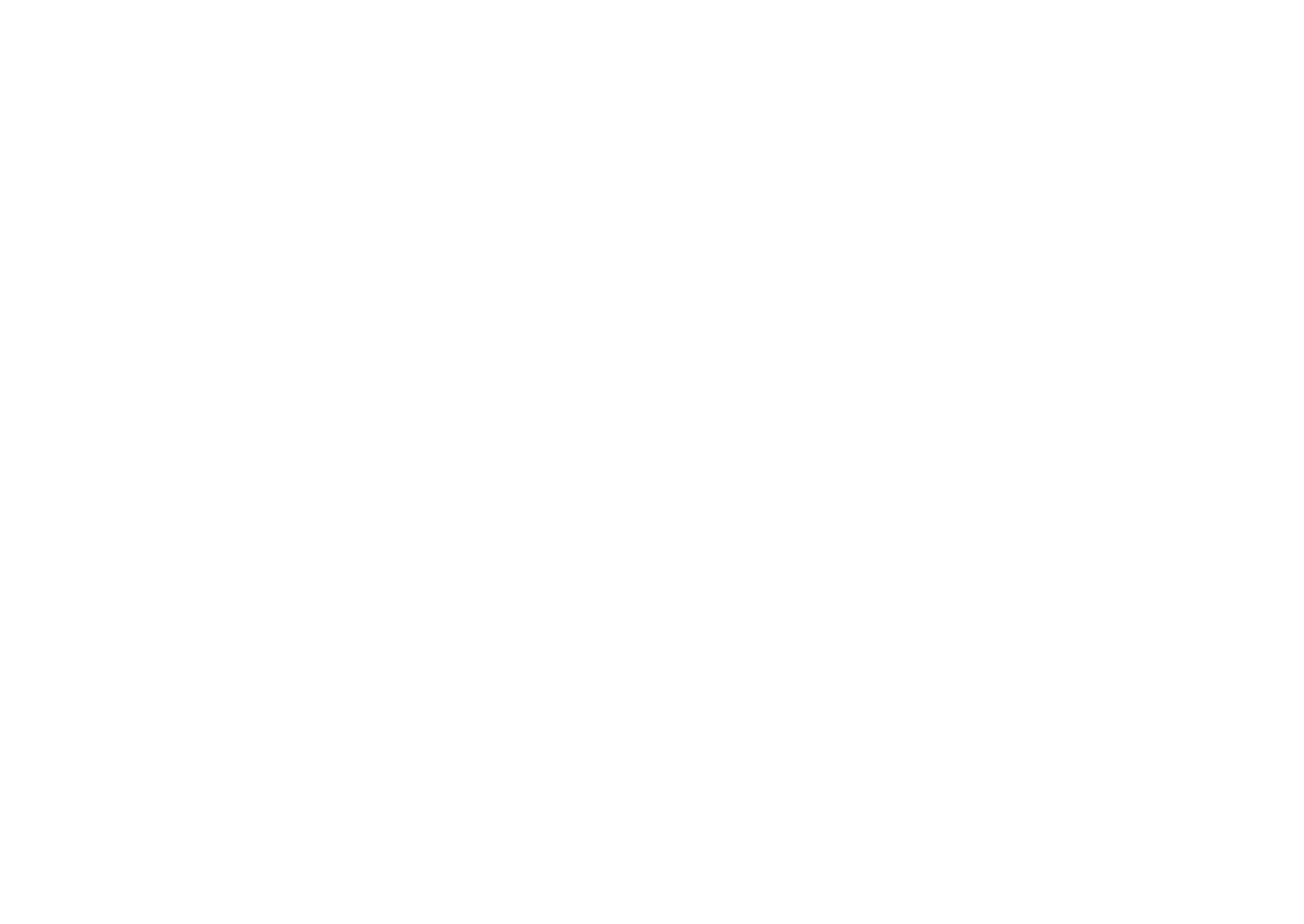
Автограф Мстислава Ростроповича
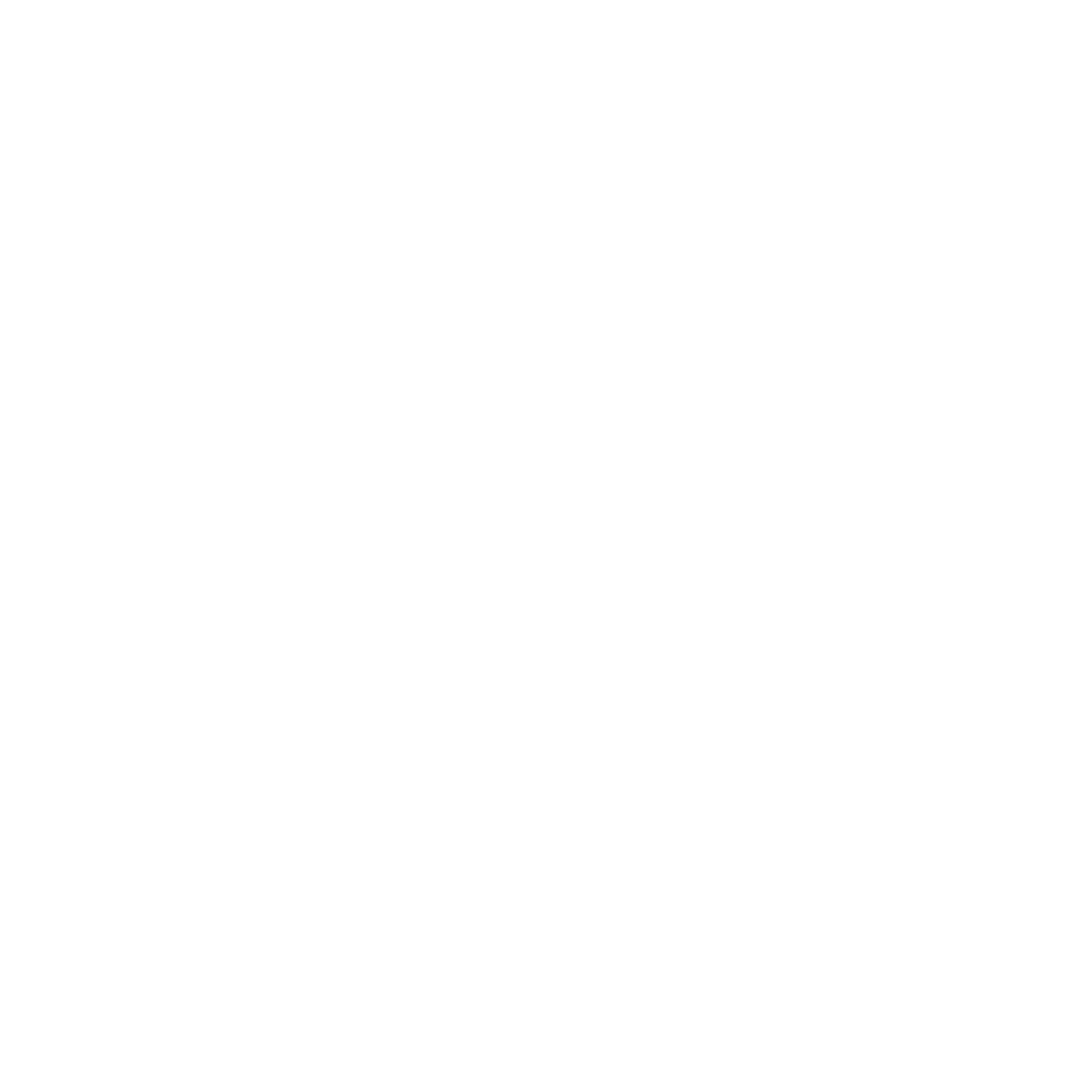
Автограф Мстислава Ростроповича
Двадцатого я с родителями (они тогда были моложе меня сегодняшней) ездила к Белому дому. Видели танки. Было не страшно. Было странно. Постояли на площади, послушали Ельцина. Вернулись домой. В электричке (туда и обратно) мне казалось, что людям нет дела до происходящих событий, все заняты своей обыденной, будничной жизнью. Не помню, отчего мне так чудилось. Может быть, слышала разговоры о житейском, о дачном, к примеру, заборе. Бог знает. Дома слушали «Эхо Москвы», новости, песни Высоцкого.
Недавно я смотрела документальный фильм Лозницы об августе девяносто первого в Ленинграде (уже в сентябре город вновь станет Петербургом). Меня поразила толпа, даже не толпа, собрание людей на площади. Тихие люди. Тихие, потому что слушали. Выступающих. Новости по радио. Прислушивались. Ждали. Это была не растерянность, разве что отчасти. Предгрозовая тишина.
Двадцать третьего (или двадцать четвертого) я встречалась в Москве с друзьями, с Олегом Аронсоном и его женой, с Сережей Гурко. Ходили по Москве, молодые и счастливые. Когда-то в другой стране мы учились в МИИТе на программистов, а теперь я училась писать сценарии, Олег и Сережа поступали в аспирантуру Института философии (или только что поступили).
Недавно в музей пришел архив Говорухина. Среди документов – листовка с Указом президента РСФСР Бориса Ельцина о незаконности Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) от 19 августа 1991 года. На листовке автограф Мстислава Ростроповича жене Станислава Говорухина синей шариковой ручкой: «Гале от / мужа Гали / от имени Гали / и от своего / С любовью / Слава / 22/VIII 91».
Через четыре года, в 1995-м, Говорухин возглавит Комиссию Государственной Думы по истории развития чеченского кризиса.
Я листаю его записи в ярко-красном «Служебном дневнике». О событиях в Чечне, о людях. Дудаев. Басаев. Руцкой. Говорухин рисовал их портреты черной гелевой ручкой, эти ручки тогда вошли в обиход.
А я в девяносто пятом пришла в Музей. Сценарии мои никто снимать не рвался, ничего у меня не складывалось. Олег посоветовал Музей.
Две тысячи двадцать первый. Я приезжаю рано утром, пью кофе, проверяю почту и берусь за старые бумаги. Дышу пылью.
Хочется сказать: всё прах. Так и говорю.
Дружба народов, №12, 2021
Недавно я смотрела документальный фильм Лозницы об августе девяносто первого в Ленинграде (уже в сентябре город вновь станет Петербургом). Меня поразила толпа, даже не толпа, собрание людей на площади. Тихие люди. Тихие, потому что слушали. Выступающих. Новости по радио. Прислушивались. Ждали. Это была не растерянность, разве что отчасти. Предгрозовая тишина.
Двадцать третьего (или двадцать четвертого) я встречалась в Москве с друзьями, с Олегом Аронсоном и его женой, с Сережей Гурко. Ходили по Москве, молодые и счастливые. Когда-то в другой стране мы учились в МИИТе на программистов, а теперь я училась писать сценарии, Олег и Сережа поступали в аспирантуру Института философии (или только что поступили).
Недавно в музей пришел архив Говорухина. Среди документов – листовка с Указом президента РСФСР Бориса Ельцина о незаконности Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) от 19 августа 1991 года. На листовке автограф Мстислава Ростроповича жене Станислава Говорухина синей шариковой ручкой: «Гале от / мужа Гали / от имени Гали / и от своего / С любовью / Слава / 22/VIII 91».
Через четыре года, в 1995-м, Говорухин возглавит Комиссию Государственной Думы по истории развития чеченского кризиса.
Я листаю его записи в ярко-красном «Служебном дневнике». О событиях в Чечне, о людях. Дудаев. Басаев. Руцкой. Говорухин рисовал их портреты черной гелевой ручкой, эти ручки тогда вошли в обиход.
А я в девяносто пятом пришла в Музей. Сценарии мои никто снимать не рвался, ничего у меня не складывалось. Олег посоветовал Музей.
Две тысячи двадцать первый. Я приезжаю рано утром, пью кофе, проверяю почту и берусь за старые бумаги. Дышу пылью.
Хочется сказать: всё прах. Так и говорю.
Дружба народов, №12, 2021
“
Память - это множество комнат, иные нараспашку, иные заперты, карманы полны ключей, но подобрать подходящий непросто, разве что повезет случайно, большинство комнат остаются заперты, ты приставляешь к двери ухо, точно к морской раковине, и слышишь тот же гул, в открытых комнатах все знакомо, запах, вид из окна, люди, их голоса, иногда ты видишь в комнате саму себя,
но тебя не видит никто.
но тебя не видит никто.
“
Память - это множество комнат, иные нараспашку, иные заперты, карманы полны ключей, но подобрать подходящий непросто, разве что повезет случайно, большинство комнат остаются заперты, ты приставляешь к двери ухо, точно к морской раковине, и слышишь тот же гул, в открытых комнатах все знакомо, запах, вид из окна, люди, их голоса, иногда ты видишь в комнате саму себя,
но тебя не видит никто.
но тебя не видит никто.